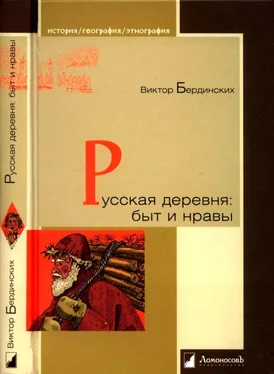В местах, населенных русскими позднее, колонизированных, считалось, что клады, уходя, зарывали коренные жители. На Вятке из всех деревьев наиболее кладоносной считалась сосна. «У нас за огородом растет сосна. Так под ней, говорили, зарыт клад. Деревни-то когда не было, первыми сюда приехали марийцы, так вот они клады-то прятали. Этот клад казался. Люди видели, как под сосной как будто свечка горит. А дедушка рассказывал, что он там коня золотого видел. Красивый и весь золотом светится. Еще рассказывали, как небо открывается. Я сама-то ни разу ничего этого не видывала. На небе появляется точка, она увеличивается и занимает пол неба. Говорят, кто три раза такое увидит, будет счастливым. Другие говорят, что небо открывается перед концом света» (П. С. Медведева, 1906).
Клады выходили из земли при определенных условиях выполнения зарока. Иногда зарок бывал тяжек. «Один житель Березовских Починок услышал разговор, что на берегу реки Камы зарыт клад с заветом “душу отдать, то есть убить человека, тогда клад легко найдешь”. Этот житель решил убить старушку, которая скоро умрет. Подкараулил старушку, переходящую бродом речку Каму, в церковь в село Георгиево шла, и утопил ее в реке. Долго потом копался с лопатой на берегу, клад не нашел» (В. П. Сюткин, 1903).
Использовать клад на благое дело считалось невозможным. Трудно было его достать — страшно его и расходовать. Кладов боялись — считалось, что они притягивают несчастья.
А вот, что рассказывает Анна Семеновна Гонцова (1912): «Про клад один случай помню. У нас на лугу стояла сосна толстая. Возле нее будто белая баба. Поверье было, если баба будет в положении и ей худо станет, надо к сосне идти — клад будет. Как-то одной баба худо стало, мужик ее и повел к сосне. Она там родила, и — правда — клад вышел — горшочек. Потом милиция приезжала: мужик тот на сплаву утонул. Баба им горшочек и выставила. А там все золото, как нынешние две копейки. А куда потом это золото дели, не знаю. А сосну потом сожгли зачем-то».
По воспоминаниям старожилов, клады порой стерегла и охраняла от людского глаза ночная нечистая сила. Уводила кладоискателей в другую сторону, переносила клады из опасного места. Особенно часто водила она людей по ночному лесу. Степан Андреевич Пыхтеев (1922) рассказывает: «С лешим надо дружить. Он, если повезет, клад найти поможет. Укажет или еще как. Но бывали сельчане, которым он помогал найти. А кладов у нас немало находили. И банды, бывало, схороняли награбленное, и с давних времен оставались или еще откуда. Рассказывали, мужик с Погорного домой по лесу пьяный шел. И заснул ненароком. Просыпается, а перед ним мальчик маленький стоит, белый такой и светится, голенький. Пошел мужик за ним. Долго шел, по корягам, по болотам. А мальчик идет и не оглядывается. Шел, шел и как бы в землю увязать начал. И совсем пропал. Испугался мужик, утром, когда рассвело, пришел он домой и рассказал все. Собрались мужики, взяли лопаты и пошли туда. Далековато то место было. Копать начали. Золота они тогда не нашли, но откопали немалую гору скелетов. Старые, гнилые, ломаные. Великое множество их там было. Неведомо, откуда они там взялись в глуши. Вот сейчас никто не верит ни в леших, ни в чертей, и в Бога люди теперь не верят. Нет для них ничего святого».
Земля была самой надежной сберкассой для мужика, куда он и прятал свои сбережения.
Об огоньке, светящемся по ночам над кладом, вспоминают очень многие рассказчики. Мария Андреевна Колбина (1916): «Богатые мужики имели золото и ставили в поле, копали ямы и закладывали золото в чаны, шкатулки. Клад этот завещали кому-нибудь из родных. А выходил этот клад, словно свечушка горит. Если этот клад завещен тебе, то видишь огонек и сможешь отыскать. А те, на кого он не был завещен, огонек не видят».
Вторая верная примета клада — мальчик, человек или конь, ведущий очевидца к кладу и там внезапно пропадающий. А. Я. Шутова (1915, дер. Угор): «Слыхали о кладах. Мужики искали клад под елочкой, говорили, что там зарыт. Но ничего не нашли. Есть такая примета, что если увидишь, будто лампочка светит, здесь и зарыт клад. Сестра мне рассказывала, что, когда она возвращалась домой, перед ней мальчик появился и побежал. Она за ним, а он упал у пня и будто зарылся. Когда она подбежала, то никого не нашла. Бабы говорили, что ей надо было очуркать и клад бы появился. Говорили, что в одном месте видели, как каталась чурка, надо было очуркать, клад бы появился».
Но если были среди крестьян любители поискать клад, то были и крестьяне, панически боявшиеся найденного клада. М. Г. Огородова (1921) рассказывает: «К одной семье под окна приходила лошадь, ржала, кушать просила, они ее пустили в ограду, она все равно ржет. Они решили ее выгнать, хлестнули, а она и распалась, а внутри — клад, одно золото. Видимо, когда стали раскулачивать-то, вот богачи, когда уезжали за границу, и заговорили с помощью колдуна лошадь, в которой золото, на Ивана. А прошло два-три года, вот клад к ним в ограду и закатился. Иван же не хотел принять золота, говорил, кому клад, тому яд, меня посадят, скажут, что я с богачом заодно».
Читать дальше