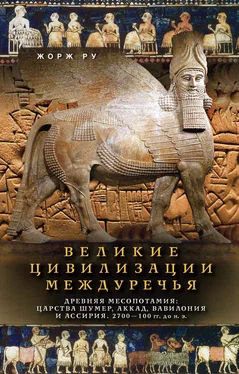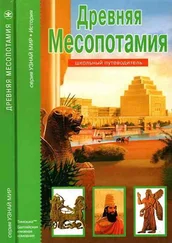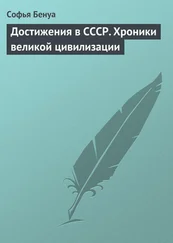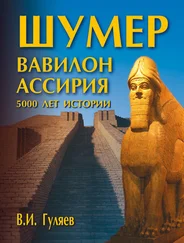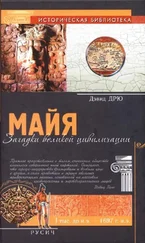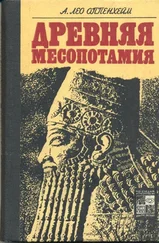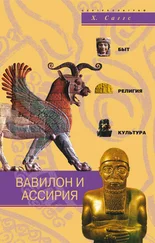Думузи (Таммуз семитов) заслуживает отдельного упоминания, так как на протяжении долгого времени считалось, будто он был богом растительности, умиравшим и воскресавшим каждый год, что символизировало исчезновение травы и зерна летом и их последующее появление весной. Это предположение основывалось на группе вавилонских текстов, известных как «плачи о Таммузе», в которых в стихотворной форме оплакивается смерть бога, на неверной трактовке шумерско-аккадского мифа о нисхождении Инанны (Иштар) в загробный мир и содержащихся в поздних источниках сведениях о культе Адониса-Тамму-за, распространенном среди финикийцев в конце 1-го тыс. до н. э. Однако позднее благодаря более верному прочтению шумерского эпоса и тщательному повторному изучению всех имеющихся в нашем распоряжении источников такие выдающиеся исследователи, как Крамер, Якобсен и Фалькенштайн, пришли к выводу, что Думузи не был воскресающим богом, что Инанна не выпускала его из загробного мира и что он был приведен туда силой, должен был занять ее место и не возвращаться домой. Таким образом, очевидно, что по крайней мере в данном случае следует отказаться от идеи об умирающем и воскресающем боге, столь дорогой сердцам некоторых историков религии. Однако нельзя отрицать, что Думузи, в котором следует видеть исключительно хтоническое божество, был тесно связан с растительностью, мелким и крупным рогатым скотом, а его союз с богиней любви можно считать типичным элементом культа плодородия, существовавшего у всех жителей Ближнего Востока с эпохи неолита.
При этом следует обратить внимание: в Шумере за производительные силы природы «отвечала» не одна божественная чета. То, что делали Инанна и Думузи для Урука, своей основной резиденции, иные боги (не обязательно обладавшие ярко выраженными земледельческими или сексуальными функциями) могли совершать для других городов. Считалось, что каждый город-государство должен самостоятельно обеспечить плодородие своих полей, плодовитость женщин и скота с помощью священного брака между его богом-покровителем и одной из почитаемых в нем богинь. Эта свадьба, отмечавшаяся раз в год весной, была центральным событием празднования Нового года, который подробно будет описан ниже.
Наконец следует упомянуть трех наиболее могущественных богов шумерского пантеона – Ана, Энлиля и Энки.
Ан (Ану или Анум на аккадском) олицетворял всепоглощающую мощь небес, в честь которых он был назван, и возглавлял шумерский пантеон. Изначально этот бог, главный храм которого находился в Уруке, был самым могущественным во вселенной, прародителем и правителем всех остальных божеств. Подобно отцу, он разрешал их конфликты, и его решения, как и принятые царем, не оспаривались. При этом по крайней мере в классической шумерской мифологии Ан не играл важной роли в земных делах и бездеятельно оставался на небе, будучи величественным, но довольно бледным персонажем.
В какой-то неизвестный период и по непонятной нам причине Энлиль, бог Ниппура, стал занимать доминирующее положение и в определенном смысле превратился в божественного покровителя всего Шумера. Намного позже ему пришлось уступить это место до того времени малоизвестному богу – покровителю Вавилона Мардуку. Однако Энлиля, несомненно, в меньшей степени можно назвать узурпатором, чем Мардука. Его имя буквально переводится как «Владыка-ветер», что, помимо всего прочего, подразумевает безграничность, движение и жизнь (дыхание). Энлиль вполне справедливо может претендовать на звание «небесной силы», отделившей землю от неба и таким образом создавшей мир. Теологи Ниппура сделали его также владыкой людей, царем царей. Ан все еще обладал царскими регалиями, но именно Энлиль избирал царей Шумера и Аккада и «возлагал на их головы священную корону». И, подобно хорошему правителю, сохраняющему порядок в своем царстве, бог воздуха мог удержать мир одним своим словом:
Без Энлиля, «Великой Горы»,
Не было бы возведено ни одного города, не было бы заложено
ни одного селения,
Не было бы построено ни одного хлева, не было бы устроено
ни одного загона,
Не возвысился бы ни один царь, не родился бы ни один
верховный жрец;
Ни один жрец «мах» и ни одна верховная жрица не были бы
избраны гаданием по внутренностям овцы.
У работников не было бы ни смотрителя, ни надсмотрщика…
Реки в паводок не разливались бы,
Рыбы морские не метали бы икру в зарослях тростника,
Птицы небесные не вили бы гнезд на земных просторах,
В небе летучие облака не отдавали бы свою влагу…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу