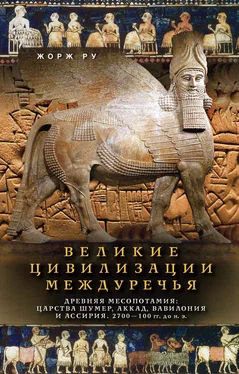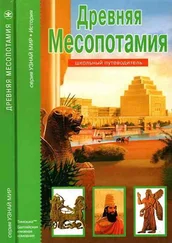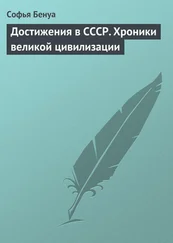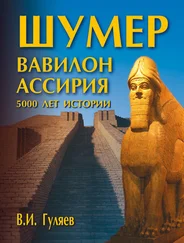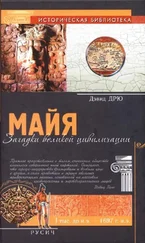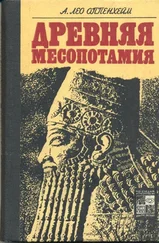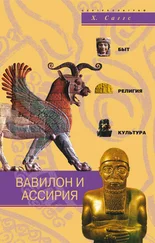Однако другие черты, характерные для памятников, найденных на севере, нельзя объяснить одним лишь географическим фактором. Так, если три храма, окружающие двор, благодаря чему образуется превосходное подобие акрополя, и найденные в Тепе-Гавра, в слое XIII, во многом похожи на аналогичные здания, обнаруженные в Эриду, два толоса , как и изображение сидящей богини-матери, выбиваются из этой картины.
Возможно, более важным является тот факт, что в Тепе-Гавра и Эриду существовали совершенно разные погребальные обряды. В Эриду, за пределами поселения, находился обширный некрополь, где останки взрослых и детей лежат на спине, в вытянутом положении, в могилах, обложенных и покрытых кирпичом. Большинство погребений в Тепе-Гавра представляет собой простые могилы, выкопанные вокруг храмов. Покойные в них лежали на боку, в скорченном положении. Детей хоронили в сосудах. Данный факт, помимо всего прочего, позволяет нам сделать вывод о том, что носители убейдской культуры на севере были в меньшинстве. Завоеванные, но не истребленные, потомки носителей халафской культуры, очевидно, все еще составляли значительную часть населения, в то время как на юге доминировала убейдская культура. В следующей главе речь пойдет о том, как разрыв между севером и югом стал постепенно расширяться и каким образом юг стал играть ключевую роль в формировании цивилизации.
Хотя эти региональные особенности и были заметны, они не привели к тому, что убейдская культура перестала быть однородной. Привезенная изначально, очевидно, в дельту Месопотамии, она стала распространяться по течению рек и была перенята жителями Джазиры, Северной Сирии и даже Киликии. Границами ее распространения стали горы Тавра и Загроса, но и они не были непреодолимыми преградами для торговцев. О том, что торговля действительно велась, и о ее масштабах свидетельствуют находки в Тепе-Гавра металлических изделий, а в Уре – амазонита, полудрагоценного камня, встречающегося только в Индии. Несмотря на то что на южной равнине использовали простую систему резервуарного орошения, пищи было достаточно, чтобы прокормить население, численность которого быстро увеличивалась. Новые поселения, которых появилось очень много, строились на берегах рек или их притоков, а друг с другом их связывали водные маршруты (об этом свидетельствуют глиняные модели лодок, найденные в Уре и Эриду). Так как слой убейдского периода на большинстве памятников оказывался в самом низу тестовых шурфов, мы не можем делать выводы о том, что представляли собой эти поселения – деревушки, деревни или даже небольшие города. Однако тот факт, что из них впоследствии «выросли» основные города Шумера, весьма примечателен сам по себе.
Другой факт позволяет нам делать еще более далекоидущие выводы. Самым большим и хорошо построенным зданием из всех сооружений, стоявших в убейдской деревне, был храм. Более того, одни и те же религиозные обычаи соблюдались в одной местности начиная с убейдского периода и вплоть до раннего исторического периода, то есть на протяжении почти тысячи лет. Таким образом, шумерский город разрастался вокруг святилища, а не дворца. По всей вероятности, храм уже стал основой, базируясь на которой развивались хозяйство и общественная жизнь. Говоря о столь древних временах, мы еще не можем произносить слово «шумеры», но должны признать, что именно в убейдский период была заложена основа для последующего развития шумерской цивилизации.
Глава 5
Рождение цивилизации
Как читатель, наверное, уже заметил, говоря о протоисторической эпохе, мы старались не приводить абсолютные датировки. Причина этого заключается в том, что до тех пор, пока в нашем распоряжении не окажутся более или менее точные результаты радиоуглеродного анализа, выводы о хронологии нам придется делать, основываясь на столь ненадежных данных, как толщина стратиграфических слоев и продолжительность среднего промежутка времени, в течение которого культура может развиться и сойти на нет. Проведя очень грубые подсчеты, можно предположить, что хассунский и халафский периоды длились на протяжении всего 5-го тыс. до н. э., в то время как убейдская эпоха, оказавшаяся довольно продолжительной, насчитывает первые шесть или семь столетий 4-го тыс. до н. э. Однако сопоставление имеющихся в нашем распоряжении данных о последних этапах протоисторического периода со сведениями, полученными в ходе изучения истории Палестины и Египта, несколько облегчает нашу задачу и позволяет привести следующие примерные датировки:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу