Скорее уж можно было бы назвать «русским» (в кавычках) противоположное понимание свободы – как «позитивной», которое в своей основе есть стремление обставить свободу разными моральными и религиозными ограничениями. Впрочем, сама затея найти какой-то один специфический национальный концепт свободы или какое-то отдельное «непереводимое» слово, его называющее, является бесперспективной, учитывая многовековой трансфер понятий в европейском интеллектуальном пространстве. Но можно констатировать, что само понятие «негативной свободы», или «свободы от», имеет в российских философских и публицистических дебатах, как правило, сугубо отрицательную окраску 95 95 Ср.: «Это понятие свободы есть отрицательное и потому для постижения ее сущности бесплодное» ( Соловьев В. С. Оправдание добра // Он же. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 571. (Философское наследие. Т. 104)).
и связывается с представлением о «безграничности» и «анархии», тогда как «позитивная», т. е. «правильная», свобода рассматривается как подчинение своей воли какому-то высшему принципу, будь то моральный закон, понятие Бога или объективно-исторической необходимости.
Конечно, и топос «позитивной свободы» вовсе не является принадлежностью какой-то одной национально-культурной традиции, хотя и варьируется от концепции к концепции и от одного дискуссионного контекста к другому (у Канта, Шеллинга, Ч. Тейлора или А. Макинтайра). Специфическими могут быть его генеалогия и функция в дискурсе. И как раз в этом отношении можно констатировать, что оппозиция «воли» и «свободы» и вытеснение «воли» как «анархии» и «беспредела» скрывает и переозначивает совсем другое понятие, игравшее значительную роль в освободительном движении, но оказавшееся вычеркнутым из философского и политического словаря. Это понятие социальной свободы , возникшее в противоборстве вокруг вопроса о юридических гарантиях свободы и возможности ее реального осуществления для тех, кто не обладает ресурсами и средствами, чтобы воспользоваться этими гарантированными свободами. Начиная с полемики Н. Г. Чернышевского с Б. Н. Чичериным и народнической критики буржуазного понятия свободы как «пустого» и «обманчивого» 96 96 Чернышевский Н. Г. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 480–483.
и до попыток синтеза социализма и либерализма в освободительном движении начала XX в. в идее «права на достойное человеческое существование» 97 97 См.: Плотников Н. С. «Право на достойное существование». К истории дискурса справедливости в русской мысли // Логос. 2007. № 5. С. 111–133.
, эта дискуссия приходила к утверждению неразрывной связи свободы и справедливости, которая лежала в основе современного понимания социального правового государства, но была вычеркнута большевиками и заменена «диктатурой пролетариата». А вместе с идеей юридических гарантий основных социальных прав, которая была одной из ключевых в программе подготовки Учредительного собрания 1917–1918 гг. 98 98 Вишняк М. В. Всероссийское учредительное собрание. М., 2010; там же: Медушевский А. Н. Марк Вениаминович Вишняк. С. 25–28.
, под большевистские лозунги об «освобождении труда» была похоронена и сама идея политической свободы в ее социал-либеральном модусе как дискурс и практика.
Устранению политического из публичной сферы путем однопартийной диктатуры парадоксальным образом не только не противоречил, но в известном смысле его дополнял весь дискурс литературной общественности. При всей своей оппозиционности, он отводил политическому подчиненное место по сравнению с «духовным», определяя его как область борьбы за узкие партийные интересы, а не как сферу свободы. Этот габитус интеллигенции отчетливо зафиксирован в еще одном «общем месте» споров о свободе в России – топосе «внутренней свободы» . «Свобода – это то, что у нас внутри», – поет рок-кумир современной российской публики. И он отчасти воспроизводит давний, встречающийся уже у русских масонов XVIII в. христианский топос свободы как свойства одинокой «души». Но в сочетании с эстетикой гениальности, царящей в эпоху литературной публичности, он складывается в формулу делегитимации социального, которая актуализируется всякий раз, когда волны реакции, ужесточения цензуры и репрессий против «вольнодумства» делают уже само наличие самостоятельной мысли и слова свидетельством свободы индивидуума. От «тайной свободы» Пушкина до «свобода – это когда забываешь отчество у тирана» Бродского литературно-философские и религиозные вариации на тему внутренней свободы неизменно подчеркивают суверенитет творческой воли личности и ее право не считаться с внешними ограничениями и запретами в силу присущего ей духовного авторитета 99 99 Мысль о том, что внутренняя свобода важнее внешней, составляет одну из главных идей А. И. Солженицына, особенно в его Гарвардской речи.
. «Свобода» в этом виде приобретает снова элитарный характер для немногих избранных. Конечно, с этим же топосом связано и представление о силе индивидуального сопротивления всякой деспотии, которое охраняет последний оплот человеческого достоинства – «внутреннее пространство» души. Но и оно, устанавливая приоритет духовного над социальным, возводит в принцип идею частной свободы атомизированного индивидуума 100 100 Ср.: Синявский А. Д. Диссидентство как личный опыт // Он же. Литературный процесс в России. М., 2003. С. 20–34. Этот манифест Синявского служит свидетельством активной дискуссии в диссидентской среде о том, является ли свобода политическим «движением» или нравственной установкой отдельных личностей. Об этом см.: Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. М., 2010.
. А такая свобода оказывается вполне совместимой и с деспотизмом 101 101 Об этом: Берлин И. Два понимания свободы. С. 140–147. Столетием ранее Берлина немецкий поэт Иоганн Готфрид Зойме назвал такую внутреннюю свободу или «свободу лишь в мысли» «выдумкой деспотизма» ( Goos Ch. Innere Freiheit. Eine Rekonstruktion des grundgesetzlichen Würdebegriffs. Bonn, 2011. S. 97).
. И она чужда политической свободе как солидарному делу всех, как отношению с Другими, как участию в совместном освобождении не только на уровне идей, но и на практике. Впрочем, и этот топос «внутренней свободы» и ее противопоставления «внешней» тоже не уникальный продукт российского или советского дискурса, а результат восприятия и трансформации концептов, идущих от античного стоицизма, вполне допускавшего совмещение рабства и духовной свободы.
Читать дальше
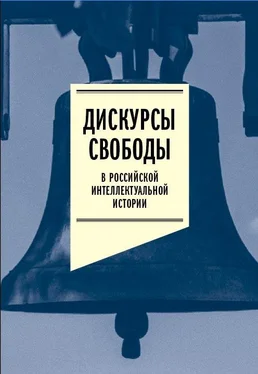

![Array Коллектив авторов - Здравствуйте, доктор! Записки пациентов [антология]](/books/73502/array-kollektiv-avtorov-zdravstvujte-doktor-zapi-thumb.webp)









