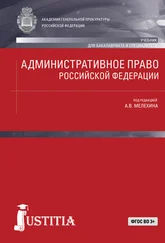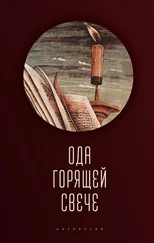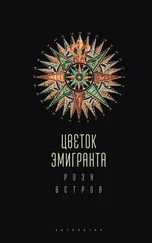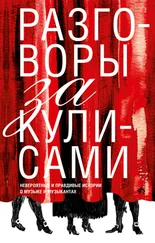Ко второй половине XVIII в. семантическое поле определяется с помощью трех слов: свобода – в общефилософском смысле и преимущественно в религиозном смысле «спасения души», «освобождения от греха» и внутренней независимости; вольность – в смысле пожалованных привилегий и льгот, освобождавших отдельные слои и группы населения от тех или иных ограничений и повинностей; воля — в смысле полного освобождения от рабства и крепостной зависимости. В этих значениях лексику свободы фиксируют и словари конца XVIII в. 59 59 Словарь Академии Российской. Т. 5. 1789; Алексеев П. А. Церковный словарь, или Истолкование речений славенских древних. Ч. 3. От Р до V. СПб., 1794.
Причем, как замечает Шмидт, все три слова имеют неполитический характер.
Частичный параллелизм значений слов «свобода» и «вольность» предопределяет в течение XVIII в. неустойчивость их употребления, они часто оказываются взаимозаменяемыми – «Вольное экономическое общество» и «свободные науки», манифест Петра III «О вольности и свободе дворянства» (1762) и т. п. 60 60 См. примеры: Веселитский В. В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII – начала XIX в.
Ситуация изменяется во второй половине XVIII в. с рецепцией в России теорий естественного права и перевода соответствующей терминологии политических и правовых теорий. В ходе этого процесса происходит перераспределение значений: «вольность» приобретает правовое значение свободы, тогда как «свобода» обозначает «общую (часто физическую) возможность совершения чего-либо» 61 61 Там же. С. 273.
.
Сама императрица Екатерина II собственноручно содействовала упрочению этого естественно-правового значения «вольности» своим знаменитым «Наказом, данным Комиссии о сочинении проекта нового Уложения» (1767), в котором она дословно заимствовала определения свободы из «Духа законов» Ш. Монтескье. Принимая за исходный пункт «естественную вольность» людей, Екатерина определяет условие, при котором эта вольность получает наименьшие ограничения и, кроме того, направляется «к получению самого большого ото всех добра» (ст. 13 и 14). Такое общественное состояние она называет «общественной или государственной вольностью» (ст. 39), отождествляя политическую свободу исключительно с государственной, каковая «есть право все то делать, что законы дозволяют» (ст. 38). Дух свободы («разум вольности», ст. 14), к которому взывает императрица, поэтому не противоречит в ее понимании принципу «единоначалия» и неограниченной самодержавной власти, ведь только она и печется об установлении «вольности», покоя и безопасности граждан (ср. ст. 39, 112 о равнозначности свободы и безопасности). Расширению узуса слова «вольность» способствует и то, что Екатерина использует его не только в этом естественно-правовом значении, но и в смысле прав и привилегий. Так, она пишет в «Наказе» о «вольности торговли», а позднее в особой жалованной грамоте закрепляет «вольности дворянства» («Грамота на права, вольности и преимущества благородного дворянства», 1785). Говорит она и о «лишении вольности» (ст. 210, 212 о смертной казни). А в контраст такому расширению семантики слова «вольность» – нечастое использование слова «свобода»: слова «свобода», «свободный» употребляются 12 раз против 35 употреблений слова «вольность». «Свобода» сводится здесь к физической возможности передвижения и произвольного действия («свободный проезд», ст. 566; «лишение свободы», ст. 136, 212; «свобода действий», ст. 194 и т. п.) и никак не связана с естественно-правовыми категориями 62 62 О дифференциации понятий свободы в XVIII в. см.: Бугров К. Д. «Петровская» и «екатерининская» концепции политической свободы в России 2‐й половины XVIII в. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2013. № 2 (114). С. 179–189.
.
Таким образом, Екатерина II приложила руку к распространению слова «вольность» в значении политической свободы и независимости, которое потом подхватил А. Н. Радищев. Он сделал его лозунгом интеллектуальной оппозиции и тем заложил основы освободительного движения в России. Но, ссылаясь в «Путешествии из Петербурга в Москву» на определение вольности в «Наказе», Радищев намеренно радикализует его, провозглашая равенство перед законом условием свободы («вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам») 63 63 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Он же. Избранные философские и общественно-политические произведения. М., 1952. С. 162.
. Он наполняет понятие «вольность» отчетливо республиканским смыслом, и его ода «Вольность» кажется изложением в стихах первых глав трактата Руссо «Об общественном договоре». Впрочем, естественно-правовое понимание свободы как «естественной вольности», которая необходимо должна трансформироваться в правовые рамки «гражданской» или «политической вольности», получает широкое распространение в последние десятилетия XVIII в. и помимо Радищева (в текстах Д.И Фонвизина, Я. П. Козельского, С. Е. Десницкого) 64 64 Ср.: История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX века. С. 303.
. Поэтому вполне последовательным выглядит в этом контексте то обстоятельство, что и основной лозунг Великой французской революции переводится в конце XVIII и еще в начале XIX в. (вопреки суждению Г. П. Федотова) как «Вольность, равенство, братство» 65 65 Ср.: С.-Петербургские ведомости. 1789. № 74. С. 1168; Новые ежемесячные сочинения. 1793. Ч. 79–83. С. 96; Санкт-Петербургский журнал. 1809. № 9. С. 93. См. также: Шустов А. Н. «Свобода, равенство, братство»: Из истории русской общественно-политической лексики // Русская речь. 2012. № 3. С. 96–101.
.
Читать дальше
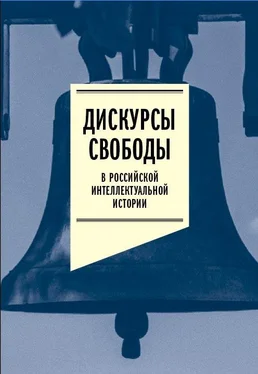

![Array Коллектив авторов - Здравствуйте, доктор! Записки пациентов [антология]](/books/73502/array-kollektiv-avtorov-zdravstvujte-doktor-zapi-thumb.webp)