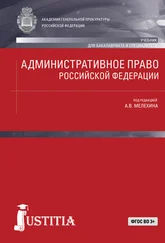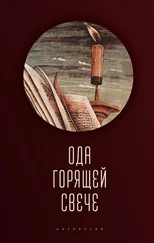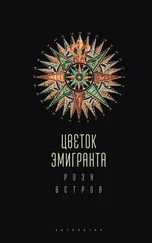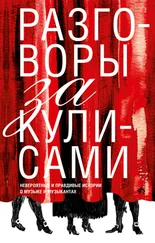Дело обстоит совсем иначе, если рассмотреть семантическое поле «свободы» в диахроническом измерении. Динамика семантических трансформаций оказывается индикатором различий в линиях развития политического и культурного опыта, который находит свое выражение в слове и формирует основные элементы сознания свободы, в значительно большей степени, нежели синхронное сравнение отдельных аспектов словарного значения слова. Хотя подробная история русского слова «свобода» еще не написана, а есть только отдельные подступы к ней 52 52 В советских исследованиях общественно-политической лексики (В. В. Виноградова, Ю. С. Сорокина) анализ истории слова «свобода» за небольшими исключениями не предпринимался. Высказаны лишь разрозненные наблюдения об истории слова «вольность» в языке XVIII в.: История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX века / Ред. Ф. П. Филин. М., 1981. С. 302–304; Веселитский В. В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII – начала XIX в. М., 1972. С. 273–274 (в сравнении со словом «свобода» в конце XVIII в.). Распространенная практика анализа «культурных концептов» в духе А. Вежбицкой уделяет мало внимания истории слов, сосредоточиваясь на синхронном изучении разных контекстов употребления. Исключение составляют: Левонтина И. , Шмелев А. Либеральный лексикон. М., 2019 (где анализ контекстов употребления дополняется экскурсами в историю слова «свобода»), а также более подробная работа: Лисицын А. Г. Анализ концепта «свобода-воля-вольность» в русском языке. Дисс. канд. филол. н. М., 1996.
, можно установить по крайней мере основные вехи истории понятия и его вхождение в пространство публичного дискурса. В русском языке, отмеченном в его средневековой фазе диглоссией церковнославянского и древнерусского языков, семантическое развитие проходит по двум основным лексическим траекториям – «свободный» и «вольный», аналогично английскому языку с его двойственностью «freedom» и «liberty», которые, однако, имеют иные семантические признаки 53 53 В целом ряде определений понятия (а не слова) на английском языке и в первую очередь в знаменитом эссе И. Берлина «Два понятия свободы» различие слов «freedom» и «liberty» не учитывается, а устанавливаются сугубо концептуальные различия в понимании свободы.
. Кристоф Шмидт в очерке истории русского понятия «свобода» подчеркивает в качестве основного значение слова «свобода» («свободити», «свободь» и др.) в религиозно-церковном контексте 54 54 Schmidt Ch. Freiheit in Russland. Eine begriffshistorische Spurensuche // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2007. Bd. 55. S. 264–275. Эти данные подтверждаются в исследовании: Коршаков В. В. «Свобода» и «воля» древнерусского человека // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. II. № 3. С. 13–28.
(как перевод др.-греч. «ἐλευθερία») – «избавление от греха», «спасение», т. е. свойство, отличающее члена религиозной общины (древнейшее свидетельство в «Изборнике» Святослава 1076 г.). В мирском контексте «свобода» обозначает также особый статус или привилегию свободного человека («свободь») в противоположность рабам и холопам. Наряду с этим значением тексты средневековой Руси говорят о свободе в третьем – юридическом – значении прав и привилегий городских и посадских общин («слобода», «слободской»), дарованных князем, и одновременно их территорий как привилегированных (в налоговом, хозяйственном и т. п. отношении) пространств.
Другой сектор семантического поля свободы – «вольный» – восходит, согласно Шмидту, к совсем иному древнегреческому источнику. Оно используется как перевод «ἑκούσιος» («произвольный», «добровольный» как характеристика поступков человека) и совершенно не встречается в религиозно-богословском контексте 55 55 Schmidt Ch. Freiheit in Russland. S. 266–267.
. «Вольный» имеет прежде всего хозяйственно-юридическое значение (например, в новгородских грамотах XIII в.) «намеренного действия», а также разрешения на свободу торговли, свободу заключать договоры и пр. Существительное «вольность» появляется только в XVII в. после Смуты, вероятно, в силу польских влияний и достигает наиболее широкого распространения в XVIII в. в значении правового статуса и привилегий социальных групп и их членов.
Существует, однако, и третья линия семантического развития, связанная со второй, но отличающаяся по траектории изменения, – слово «воля». Его история протекает сначала параллельно с историей «вольности» в смысле «разрешения», «привилегии» и «права» на какие-либо действия, но осложняется омонимией со способностью желания («voluntas»/«Wille») и «произволом»/«свободной волей» («arbitrium»/«Willkühr») 56 56 Ср.: Христофора Целлария краткий латинский лексикон с российским и немецким для употребления Санкт-Петербургской гимназии. СПб., 1746.
. Именно из сочетания этих двух значений возникает в XVIII в. то значение воли как «безграничной» свободы, которое согласно Г. П. Федотову наиболее явно маркирует его «русскость» 57 57 Федотов Г. П. Россия и свобода. С. 198. Федотов относит понятие «воля» даже к Московской Руси, хотя значение «вольницы» оно приобретает значительно позднее.
. Не в последнюю очередь оно связано с социальным статусом «вольного» казачества, имевшего свободу передвижения и ряд других привилегий («вольностей»), в частности добровольное несение воинской службы («вольница»). А казак Емельян Пугачев, используя ту же самую юридическую терминологию, превращает в своих «царских указах» слово «воля» в революционное требование восставшего крестьянства. Он обещает «дать волю» (вольность) всему закрепощенному населению, в силу чего «воля» становится обозначением состояния, свободного от всякой зависимости и принуждения 58 58 Ср.: Именные указы, повеления и манифесты Е. И. Пугачева // Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века: В 2 т. / Под ред. И. Я. Щипанова. М., 1952. Т. 2. С. 89, 92 («воля»); 95, 96, 97, 98 («вольность»).
.
Читать дальше
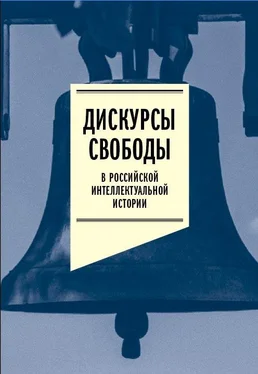

![Array Коллектив авторов - Здравствуйте, доктор! Записки пациентов [антология]](/books/73502/array-kollektiv-avtorov-zdravstvujte-doktor-zapi-thumb.webp)