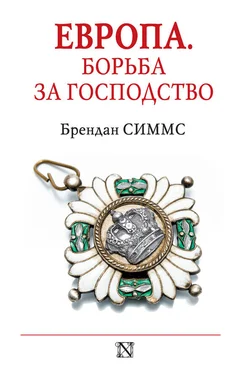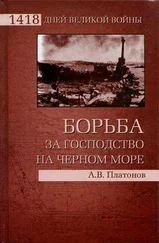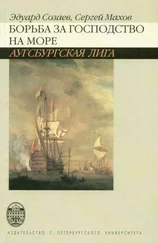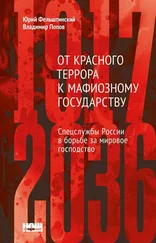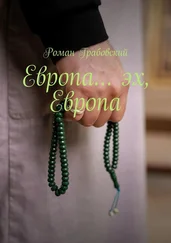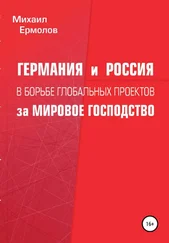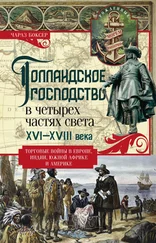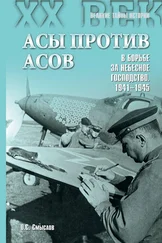Европа в 1450 году
С конца Средних веков жители Западной и Центральной Европы наслаждались общей идентичностью. [3] Robert Bartlett, The making of Europe. Conquest, colonisation and cultural change, 950–1350 (London, 1993), pp. 269–91, especially p. 291.
Почти каждый исповедовал католическую религию и признавал духовный авторитет римского папы, образованные сословия владели латынью и были осведомлены в римском праве. Европейцев также объединяло противостояние исламу, который сдавал свои позиции на Пиренейском полуострове, но быстро надвигался на юго-восточный фланг Европы. Государственное устройство большинства европейских стран опиралось на схожие социальные и политические структуры. Крестьяне платили подати феодалам в обмен на защиту и покровительство, а также десятину церкви – за духовное наставничество. Многие самоуправляемые города подчинялись элите, которую образовывали члены гильдий и магистратов. Аристократы, высшее духовенство и, в отдельных случаях, города заключали оборонительные соглашения с государем, которому они обязывались оказывать военную помощь и давать советы в обмен на защиту и подтверждение прав на землевладение или на расширение этих угодий. [4] Thomas N. Bisson, ‘The military origins of medieval representation’, American Historical Review, 71, 4 (1966), pp. 1199–1218, especially pp. 199 and 1203.
Эти «контрактные» феодальные взаимоотношения регулировались посредством сословно-представительных учреждений: английского, ирландского и шотландского парламентов, Генеральных штатов во Франции и исторических Нидерландах, кортесов Кастилии, венгерского, польского и шведского сеймов и немецкого рейхстага. [5] Обзоры: A. R. Myers, Parliaments and estates in Europe to 1789 (London, 1975), and H. G. Koenigsberger, ‘Parliaments and estates’, in R. W. Davis (ed.), The origins of modern freedom in the west (Stanford, Calif., 1995), pp. 135–77. Об Англии, Германии и Швеции: Peter Blickle, Steven Ellis and Eva Österberg, ‘The commons and the state: representation, influence, and the legislative process’, in Peter Blickle (ed.), Resistance, representation, and community (Oxford, 1997), pp. 115–54. О парламентской критике большой стратегии: J. S. Roskell, The history of parliament. The House of Commons, 1386–1421 (Stroud, 1992), pp. 89, 101, 101–15, 126, 129 and 137.
Подавляющее большинство государей, если коротко, не обладало абсолютной властью.
В отличие от соседней Османской империи или более далеких азиатских политий, европейская политическая культура характеризовалась интенсивными общественными (или псевдообщественными) дебатами: какой величины должны быть налоги, кем, кому и для каких целей их надлежит платить. Хотя европейцы были скорее подданными, чем гражданами в современном смысле этого слова, большинство из них верило в правительство по «общественному договору». Защита прав – или «привилегий», как формулируется сегодня, – населения от посягательства государя являлась постоянной заботой. Европейцы вовсе не жили при демократии, однако элита располагала немалой «свободой». Более того, в Позднем Средневековье в Европе повсеместно ощущалось стремление к политической свободе, пусть даже это было именно стремление, а не реальное движение: чем ниже по социальной лестнице, тем оно было сильнее. [6] Samuel K. Cohn Jr, Lust for liberty. The politics of social revolt in medieval Europe, 1200–1425. Italy, France and Flanders (Cambridge, Mass., and London, 2006), pp. 228–42.
Свобода отстаивалась прежде всего локально, но иногда местного тирана оказывалось возможным одолеть только с помощью соседних государей. По этой причине европейцы не имели четкого представления о суверенности: многие считали внешние интервенции против «тиранического» правления не просто легитимным, но желательным решением и даже проявлением долга здравомыслящих государей.
Ошибочно считать основные европейские страны той поры великими державами или государствами в современном понимании этого слова. Тем не менее процесс «государственного строительства» в Позднем Средневековье набирал, так сказать, обороты: правители старались обеспечить мобилизацию населения для расширения собственных владений – или просто для того, чтобы уцелеть. [7] Richard Bonney (ed.), The rise of the fiscal state in Europe, c. 1200–1815 (Oxford, 1999), and Philippe Contamine (ed.), War and competition between states (Oxford, 2000).
Помимо того, такие страны, как Англия, Франция, Кастилия, Польша, Бургундия, осознавали свою особенность, силу и значимость; применительно к Англии и Франции уже возможно говорить о «национальном» самосознании, которое складывалось на основе политического участия, общего языка и войн (преимущественно друг с другом). Одновременно европейцы осознавали свою причастность к «христианскому миру» (тогдашний синоним Европы), и это, в частности, периодически выражалось в крестовых походах против мусульман. Благодаря Марко Поло и другим путешественникам, европейцы узнали о Китае и других странах Дальнего Востока, но не имели почти никакого представления о Западном полушарии. Не будучи ни в коей мере «евроцентристами», они в большинстве своем, тем не менее, были убеждены, что живут на окраине мира, центром которого являются Иерусалим и Святая земля. [8] Michael Wintle, The image of Europe. Visualizing Europe in cartography and iconography throughout the ages (Cambridge, 2009), pp. 58–64.
Поэтому первые дальние плавания совершались вдоль западного побережья Африки – в поисках альтернативного пути на Восток и возможности напасть на мусульман с тыла. К примеру, португальский принц Генрих Мореплаватель надеялся обойти ислам с фланга и, быть может, объединить силы с «пресвитером Иоанном», правителем легендарного царства то ли в Африке, то ли в Азии (никто не мог сказать точно, где именно). В 1415 году португальцы овладели Сеутой, городом по соседству с нынешним Марокко. Расширение Европы велось в целях самообороны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу