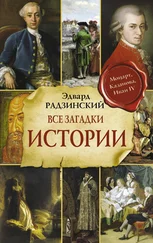Самые ранние дошедшие до нас сведения об Аравии и арабах содержатся в главе 10 Бытия, где упоминаются названия многих народов и областей полуострова. Слово «араб», однако, не встречается в этом тексте, а впервые появляется в ассирийской надписи 853 года до н. э., в которой царь Салманасар III фиксирует победу ассирийских сил над заговором мятежных князьков; один из них именуется «ариби Гиндибу», который дал объединенной армии тысячу верблюдов. С того времени и до VI века до н. э. в ассирийских и вавилонских надписях появляются частые упоминания ариби, арабу и урби. В этих надписях фиксируется взимание дани с правителей ариби, как правило в виде верблюдов и предметов, которые указывают на их пустынное происхождение, а иногда говорится о военных походах в землю ариби. Некоторые из поздних надписей сопровождаются иллюстрациями ариби с их верблюдами. Эти походы на ариби были явно не завоевательными войнами, а карательными экспедициями, проводимыми с целью напомнить отбившимся от рук кочевникам об их обязанностях в качестве ассирийских вассалов. Их основной задачей была охрана ассирийских приграничных областей и линий сообщения. Ариби из надписей – кочевой народ, живущий на крайнем севере Аравии, вероятно в Сиро-Аравийской пустыне. Этот термин не включает в себя процветающую оседлую цивилизацию Юго-Западной Аравии, которая упоминается в ассирийских хрониках отдельно. Ариби можно отождествить с аравитянами из поздних книг Ветхого Завета. Около 530 года до н. э. термин «Арабая» начинает встречаться в персидских клинописных документах.
Самое раннее античное упоминание мы находим у Эсхила, который в «Прометее» упоминает Аравию как далекую землю, откуда приходят воины с остроконечными копьями. «Магос арабос», упомянутый в «Персах» в качестве одного из командующих войска Ксеркса, возможно, тоже араб. Именно в греческих произведениях мы впервые встречаем топоним Аравия (Арабия), образованный по аналогии с Италия и т. п. Геродот и вслед за ним большинство других греческих и латинских авторов распространяют термины «Аравия» и «арабы» на весь полуостров и всех его жителей, включая южных аравитян, и даже на восточную египетскую пустыню между Нилом и Красным морем. Таким образом, представляется, что это название в тот период охватывало все пустынные области Ближнего и Среднего Востока, населенные семитоязычными народами. Кроме того, именно в греческой литературе становится общеупотребимым и слово «сарацин». Оно впервые появляется в древних надписях, и, видимо, это название одного из пустынных племен на Синае. В греческой, римской и талмудической литературе оно используется для обозначения кочевников вообще, а в Византии и на средневековом Западе позднее стало применяться ко всем мусульманским народам.
У самих арабов слово «араб» впервые встречается в древних южноаравийских надписях, этих реликвиях процветающей цивилизации, созданной в Йемене южной ветвью арабских народов и уходящей в поздний дохристианский период и первые века христианства. В них «араб» означает бедуин, часто разбойник, и называют так кочевников, в отличие от оседлого населения. Первое упоминание на севере встречается в эпитафии из Намары начала IV века н. э., одной из старейших сохранившихся надписей на североарабском языке, который позже стал классическим арабским. Эта надпись, сделанная на арабском языке, но набатейским арамейским алфавитом, говорит о смерти и достижениях Имру аль-Кайса, «царя всех арабов», в таких формулировках, которые свидетельствуют о том, что их заявляемая верховная власть не распространялась далеко за пределы кочевников Северной и Центральной Аравии.
Лишь после возникновения ислама в начале VII века мы получаем какие-то реальные данные относительно употребления этого слова в Центральной и Северной Аравии. Для Мухаммада и его современников арабы были бедуинами пустыни, и в Коране этот термин используется исключительно в указанном смысле и никогда не применяется к жителям Мекки, Медины и других городов. В то же время язык этих городов и самого Корана называется арабским. Здесь мы уже находим зачаток идеи, распространившейся в последующие времена, что чистейшая форма арабского языка – та, на которой говорят бедуины, у которых оригинальный арабский образ жизни и речи сохранился вернее, чем у кого-либо другого.
Великие волны завоевания, последовавшие за смертью Мухаммада, и создание его преемниками халифата во главе новой исламской общины широко распространили имя арабов по всем трем материкам – Азии, Африке и Европе и обозначили им одну из важнейших вех в истории человеческой мысли и достижений. Арабоязычные народы Аравии, кочевые и оседлые, основали огромную империю, простиравшуюся от Центральной Азии по всему Ближнему Востоку до Северной Африки на берегах Атлантического океана. С исламом в качестве национальной религии и новой империей в качестве трофея арабы оказались среди огромного числа разнообразных народов, различающихся расой, языком и вероисповеданием, среди которых они сформировали правящее меньшинство завоевателей и господ. Этнические различия между племенами и общественные различия между горожанами и жителями пустынь на некоторое время стали менее значительными, нежели различия между владыками новой империи и разными народами, которых они завоевали. В течение этого первого периода истории ислама, когда он был религией арабов, а халифат – государством арабов, этим словом стали называть тех, кто говорил по-арабски, кто был полноправным членом арабской общины в силу своего происхождения и кто лично или через своих предков был выходцем из Аравии. Это слово отделяло их от массы персов, сирийцев, египтян и других народов, которые оказались под властью арабов вследствие их грандиозных завоеваний, а также использовалось в христианской Европе и других странах за пределами исламского мира для обозначения жителя новой империи. Первые классические арабские словари дают нам две формы слова – «араб» и «arāb» – и утверждают, что второе обозначает бедуина, а первое употребляется в более широком смысле, описанном выше. Это различие, если оно достоверное – а в старинных словарях многое существует исключительно в лексикографическом поле, – должно впервые появляться в этот период. До него мы не встречаем никаких признаков подобного употребления. И по всей видимости, оно сохранялось недолго.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
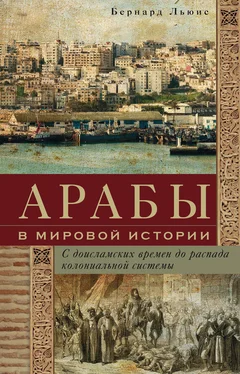
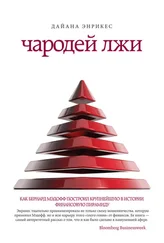
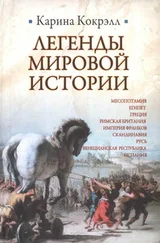
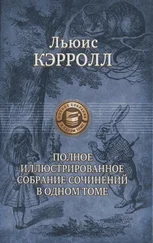

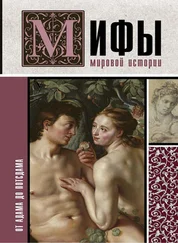
![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/409940/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii-thumb.webp)
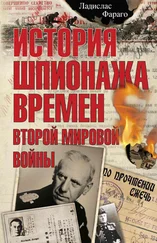
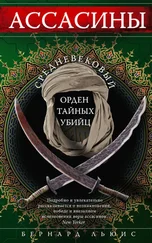
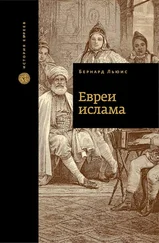
![Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/431685/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi-thumb.webp)