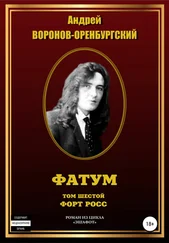Над ними быстро расходилось небо.
Антонио ощупал увесистый, жадно набитый реалами и пиастрами майора кожаный пояс, перекрестился и облегченно вздохнул. «Деньги чужих глаз не любят! До дому бы довезти!» Затем враждебно посмотрел на торчащую за лесом базальтовую твердь. Она была сморщена и равнодушна, точно лик древнего старца. Местами буйную зелень раздвигали клинья черного обсидиана – выбросы вулканической породы.
– Калифорния! – прошипел он и плюнул в сторону каменистой гряды, будто хотел утопить ее; шаркнул пятерней по курчавой опушке волос и гаркнул:
– Эй, дочка, ну-ка поди сюда, разговор есть.
– Все твои разговоры заканчиваются лаем.– Тереза, не поворачивая головы, продолжала укладывать вещи в империал.– Я устала играть в кошку с собакой.
Папаша хмыкнул в ответ и выудил из походной сумки тыкву. В ней что-то еще булькало, и он, хлопнув затычкой, приложился на совесть. Нервы его слегка отпустило; старик почувствовал себя лучше, увереннее, он крепко «потел», желая надраться в стельку.
Когда «засуха» в горле была снята, он прогремел носом в шейный платок и вновь поднасел на Терезу:
– Всего пару слов, дочь! Уважь, наконец, отца!
– Это уже больше двух слов, па! – С поклажей было покончено, и она теперь ловко боролась ореховым гребнем со своей гривой.
Муньос почесал лысину:
– А ты умеешь считать, девка, хотя и мозгов у тебя в мать – шиш. Слов-то у меня, может, и больше, да только два из них стоит не забывать…
– И какие же? – раскрасневшаяся Тереза сдула вол-нистую прядь со щеки.
Папаша тревожно огляделся и ляпнул:
– Капитан Луис.– И, не давая опомниться, навалившись на козлы колышущимся животом, захрипел: – Похоже, мы тут завязли, чайка, и по уши. Клянусь Святым Мартином, у нас на хвосте не только монахи, но и твой беркут со своей стаей, а это… – он сузил глаза и скрежетнул зубами,– считай, что у всех нас на спине по мишени. Послушай! – он подскочил к дочери и жарко задышал в лицо.– Я согласен, твой дон сыпет монеты как зерно курам,– Початок шваркнул ладонью по лоснящемуся по-ясу,– но, черт возьми, всех денег не соберешь!
Он замолчал, глубоко хватил пахнущего лимоном воздуха и причмокнул губами, будто смакуя душистое вино.
– Знаешь, Терези, лихорадка к пиастрам у меня по-убавилась на пинту-другую… Зато появилось желание жить! Надо бежать! Ты со мной?
Она нервно рассмеялась, отпрянула от отца. В быстрых движениях сквозила природная грация, недоступная белым женщинам. Она уже была донельзя сыта выкрутасами папаши и, признаться, привыкла к ним, как привыкают в Мексике к угонам скота индейцами.
– Знаешь,– вспыхнула она,– охранять тебя и даже слушать у меня нет желания. Хочешь – беги! Я остаюсь, ты стал просто противен мне… Такая подлость! Тебя вообще нельзя знакомить с порядочными людьми!
– С такими, как твой андалузский жеребец?
– Замолчи и не трогай его!
– Тихо, ты, кобыла стоялая! – Муньос сплюнул черную от табака слюну на разбитое колесо кареты, и голос его зазвучал как трещотка гремучей змеи.– Гляди-ка, нельзя знакомить! А я скажу тебе, что нельзя всю жизнь отсиживаться в курятнике. Да если хочешь знать, отец твой – хоть куда! И что ты вынюхала во мне плохого? Вот раньше я был… – Антонио по обыкновению врал, себя не помня.– В те годы, когда тебя не было и в замыслах, я был лихим кабальеро! Творил зло и добро, как хлеб маслом мазал… Но ты не думай,– он пьяно осклабился и запрокинул тыкву,—не я был такой, а жизнь… Прирезать на дороге человека, лишить его славного имени – для меня было всё едино. Вот моя голова – тогда я не верил в Иисуса!
– И когда же поверил?
– Когда родилась ты и боднула сей чертов мир криком. Вот с тех пор, дочка.
Он вновь собирался оросить глотку, но дочь вырвала тыкву и выплеснула остатки:
– Но-но, без рук, па! Я выполнила всего-навсего просьбу матушки и дона Диего. И не смотри на меня так. Хватит пить!
– Ого, и только? А у меня такое чувство, дочка, что ты мне за что-то мстишь. Но смотри, если что… – он по-грозил большущим волосатым кулаком,– ведь в моих жилах, если хочешь знать…
– Не хочу, и так знаю: одна мескалерская водка булькает. Бери ружье, и едем. Сердцем чувствую: в ущелье что-то неладно…
– Да ты совсем рехнулась! Стоило появиться этому чертову испанцу, и ты утопила в его объятиях все мои надежды. И зачем он тебе нужен такой? Каждый раз, ко-гда он будет уходить на войну, ты будешь медленно умирать и просыпаться в ужасе, ясно? Ну, что ты на меня пялишься, будто я тебя воровать заставляю? Дырку протрешь. И не хмурь брови! Выбрось его из башки. Пусть вон лошадь думает, у нее голова больше.
Читать дальше