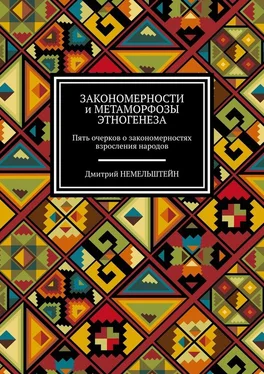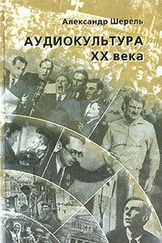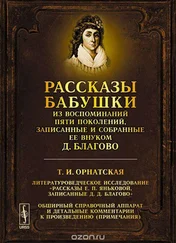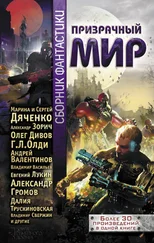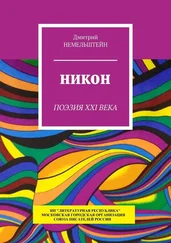В связи с вышесказанным, хотелось бы подчеркнуть: факт оставления родных мест элитой чеченского общества под натиском бурных событий говорит, что эта элита – люди общероссийского менталитета, а многие и всероссийского масштаба, так как рамки только Чечни для приложения сил и способностей этих людей исключительно тесны. До 1996 года, – до странного, но вполне поддающегося объяснению, зигзага со стороны центральной российской власти по отношению к чеченскому сепаратизму, – эта элита, при всех душевных болях за свою терзаемую родину, поддерживала в массе своей федеральную власть, понимая, что возможность НОРМАЛЬНОГО развития Чечни вне России (или без России) – иллюзорна. Никто из реально мыслящих людей не допускал мысли, как бы он сам внутренне не относился к проблеме статуса Чечни, что Россия решится на предоставление независимости одной из входящих в её состав республик, так как это стало бы сигналом к распаду ФЕДЕРАЦИИ на множество разнородных частей, которые тотчас вступили бы в состояние незатухающей склоки. А при наличии в стране джомолунгм оружия, это привело бы к страшной катастрофе мирового порядка. Поэтому Хасавьюрт поверг многих представителей чеченской элиты в недоумение и даже растерянность. Чёткая до сих пор дилемма – быть Чечне независимой или оставаться в составе России – почти перестала существовать. Реалии были основательно задрапированы перипетиями общероссийской борьбы за власть, а то, что казалось ранее иллюзорным, приобрело некое подобие манящей реальности. Таким образом, появившиеся якобы очевидные перспективы обретения Чечнёй политической независимости, прошедшие в Чечне президентские выборы, поддержанные в ряде аспектов центральной российской властью, объективно понудили многих введённых в заблуждение противников сепаратизма поторопиться с участием (в разных формах) в якобы строительстве чеченского государства. К несчастью, формирование новой чеченской государственности, и об этом мы уже говорили выше, пошло (и не могло не пойти) по заведомо неприемлемому для чеченской элиты пути, но она уже успела втянуться в этот объективный, но почти лишённый оптимистических перспектив, процесс. И если бы не военная (в соответствии с закономерностями этногенеза) экспансия со стороны переживающей сложнейшие формационные процессы Чечни в соседний Дагестан, трудно сказать, как обернулись бы дальнейшие события. Сегодня же мы видим то, что видим, а у чеченской элиты, большая часть которой, без всяких оговорок, может считаться элитой российской, никаких сомнений (и, тем более, иллюзий) относительно перспектив дальнейшего развития чеченского общества не осталось. Но наверняка осталось чувство горчайшей обиды за трюкачества федеральной власти.
16. Некоторые итоги вышеизложенного
Подытожим некоторым образом всё вышеизложенное. Что можно сказать? Как любой живой организм, этнос должен пройти все стадии развития последовательно. Невозможно из детства войти в пожилой возраст, минуя юность и зрелость. Другое дело, как мы уже говорили, что длительность каждой фазы развития этноса может быть различной, и, если детство затянулось, то фаза юности может быть пройдена быстрее, даже очень быстро, но она должна быть обязательно пройдена. Развитие такого организма, как этнос, полностью подчинено законам развития живой природы от начала до конца, от зарождения до гибели. Никаких иллюзий на этот счёт быть не может. Однако эти иллюзии существуют до сих пор, благодаря инерции идеалистических представлений о человеке и о человеческих сообществах, составляющих нынешнюю цивилизацию, как о чём-то надприродном, находящемся вне природных явлений, вне природной среды. Так вот, чеченский этнос обязан пройти все фазы естественного общественно-исторического развития, и сегодня та часть чеченского общества, где наиболее сильны были родоплеменные отношения (горская часть) очень быстро проходит те самые ступени развития, которые следуют непосредственно за родовым строем: своеобразный, но отчётливо различимый период военной демократии, представленный целой плеядой военных вождей, сформировавших свои, по преимуществу родовые военные отряды для решения, главным образом, задач внутриполитического вооружённого противостояния, как бы это не хотелось представить по-другому; затем стремительное вхождение в период рабовладельческих отношений, на которые сразу же накладываются отношения, характерные уже для феодального общества; это приводит к формированию государства соответствующего толка; а из всего этого уже вырастает внешняя военная экспансия. (Кстати, все так называемые высокоразвитые народы включают в свои общественно-экономические отношения рудименты всех предыдущих общественно-экономических формаций. Это тот самый отложенный опыт, от которого любому живому организму – читай: народу – никуда не деться. Этот опыт всегда с ним, что особенно проявляется в переходные смутные времена).
Читать дальше