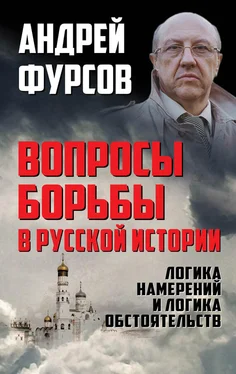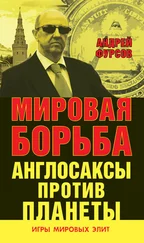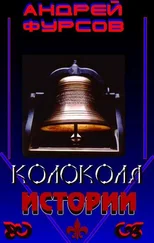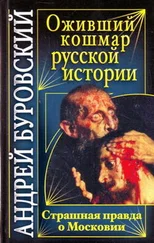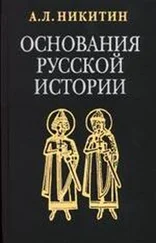Таким образом, два петербургских столетия – это сплошная конспирология. Нетрудно заметить, что переломный момент в этом революционно-конспирологическом столетии – рубеж 1870–1880-х годов, а веховое событие, во многом изменившее вектор развития страны, – убийство Александра П. С этого момента революционная борьба против самодержавия начинает развиваться по экспоненте, а вместе с ней и рост К-структур.
Как мы помним, и в развитии ядра капиталистической системы рубеж 1870–1880-х годов стал временем подъёма К-структур, резкого усиления их проектной геоисторической роли, хотя и по другим причинам, чем в России, – в большей степени по экономическим, в соответствии с логикой развития капитала как системообразующего элемента системы (в России же К-структуры поднимались по логике системообразующего элемента русского миростроя – власти). В то же время, поскольку во второй половине XIX в. (Крымская война, реформы и т. д.) произошёл качественный сдвиг в интеграции России в мировую экономику и политику, произошло взаимоналожение, суммация двух линий – европейской и русской – в развитии К-структур (в данном случае мы говорим о России). Россия и Запад вступили в эпоху «системной конспирологии», не случайно совпавшей с эпохой империализма, одновременно. Это лишний раз свидетельствует о параллелизме развития капиталистической системы и «русской системы», постепенном сближении, стягивании векторов их развития. Если декабристов можно привязать к революционному движению и развитию К-структур в Европе (главным образом средиземноморской) с определённой натяжкой, то уже «Народную волю» и тем паче более поздних революционеров нельзя рассматривать в отрыве от революционного движения и К-структур Запада. Перед нами если и не единый поток, то тесно и неоднократно, весьма замысловатым образом переплетающиеся линии, клубок. А исходной точкой переплетения во многих отношениях является убийство Александра II, которому посвятил своё исследование В. А. Брюханов. Этим исследованием мы и открываем программу-направление «Конспирология».
Коллективизация – именно её изобразил на очередной типовой картине-пазле И. Глазунов – одна из трагедий русской истории, последний акт Большой Смуты 1860–1920-х годов и, что ещё важнее, гражданской войны. Обычно пишут о том, что режим таким образом решал зашедшую в тупик проблему товарообмена между городом и деревней, который он не смог организовать экономическими методами, о задаче ликвидации властью массового слоя частных собственников общества, построенном на отрицании частной собственности, о неприязни режима к крестьянству как отсталой и серой массе, о том, что в коллективизацию жестоко ломали деревню, часто вырывая из неё лучших работников, не желавших, задрав штаны, бегать в одном строю с деревенскими лоботрясами и пьяницами. Всё это так, но это лишь самый поверхностный уровень. Это одна правда, причём самый видимый её слой. Но есть и другая – правда не краткосрочной конъюнктуры, а долгосрочной истории, правда не отдельного слоя (класса), а социального, государственного целого. Собственно трагедии в истории и происходят, когда сталкиваются, сшибаются стороны, у каждой из которых – своя правда. Ещё более трагично то, что историческую, целостную правду нередко персонифицируют мерзавцы – это отдельный вопрос, который здесь не место разбирать.
У коллективизации как одной из русских трагедий несколько источников и составных частей. Она была резким, почти одномоментным (5–7 лет), жестоким решением сразу нескольких проблем различной исторической длительности и различного масштаба (аграрная сфера, система в целом, страна, мировой уровень), проблем, без решения которых прекратил бы своё существование не только СССР, но русский цивилизационный комплекс.
Проблемами значительной исторической длительности были аграрная и крестьянская. Чтобы в Центральной России жить с земли, нужно иметь 4 десятины на человека. В 1913 г. было 0,4 десятины – то был финал относительного аграрного перенаселения, стартовавший ещё в начале XIX в. Выход из зашедшего в тупик мелкого землевладения один – крупное землевладение. Крупное индивидуальное землевладение – столыпинский вариант – русский мужик отверг, реформа провалилась: даже под нажимом властей только 25 % крестьян вышли из общины, а к 1920 г. крестьяне силовым путём вернули в общинную собственность 99 % земли. В таких условиях оставался только вариант крупного коллективного хозяйства, который в целом соответствовал традициям русского крестьянина и был реализован посредством коллективизации – при поддержке основной массы крестьян, но вопреки воле значительной (до 25 %) и вовсе нехудшей части самого крестьянства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу