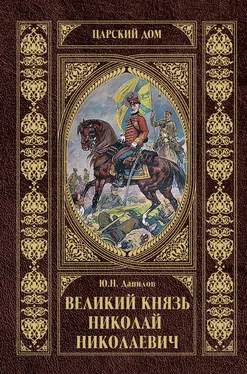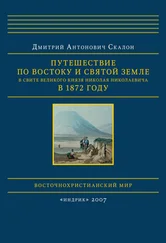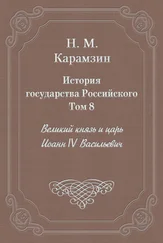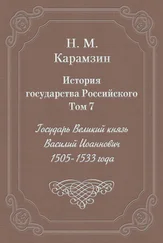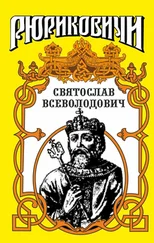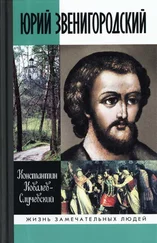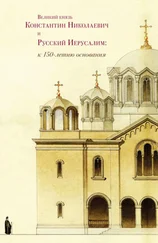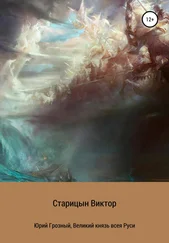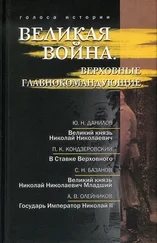«Если меня призовет Добровольческая армия, – поручил он передать посланцу генерала Алексеева, – но против меня будет Сибирская армия, то на братоубийственную борьбу из-за своей личности я не пойду».
Как читателю уже известно, великий князь Николай Николаевич, будучи вынужден к эмиграции, вначале сторонился всякой деятельности и если принял в ней некоторое участие, то почти против своей воли.
«Я лично для себя ничего не ищу, – сказал он при свидании уже помянутому князю Гр. Трубецкому [22]. – Но ко мне постоянно обращаются с разных сторон. Если я могу оказаться полезен для целей объединения, то моя совесть требует, чтобы я выполнил свой долг. Но я не могу связывать это дело с какой-либо из партий, классовыми или личными интересами. Я могу служить России только в ее целом».
Конечно, великий князь по своему внутреннему облику был монархистом. Но не к монархии призывал он, не в ее пользу он взывал к объединению. Его лозунгом была Россия, его паролем – «непредрешенство» государственного устройства.
«Пройдет время – Россия сама свободно выскажется о том, какую форму правления на будущее время она предпочитает», – говорил он.
Другой всем известный русский общественный деятель и ученый П.В. Струве [23]приблизительно так охарактеризовал позицию великого князя в зарубежном рассеянии:
«Великого князя выдвинули как объединяющую силу, как центр национальных упований, как выразителя русских чувств и русской идеи. В этом не было никакой политической доктрины, никакой партийности. Одним великий князь внушал уважение как член царствующего дома, под водительством которого укрепилась Россия с ее великой культурой. Другим он был дорог как вождь доблестной и самоотверженной российской армии, наконец, третьим – как лицо, вознесенное над всеми мелкими и жалкими счетами самолюбий и лично чуждое каких-либо домогательств».
Я уже отметил в особой главе, насколько несправедливо и предвзято считать великого князя Николая Николаевича активным деятелем в вопросе недоверчивых взаимных отношений между Россией и Германией и о якобы слепой ненависти его к немецкой национальности. Исповедовать это – значит умышленно упрощать сложную проблему европейских довоенных международных отношений до предела, скажу, наивного понимания, что величайший мировой катаклизм могли вызвать личные симпатии или антипатии отдельных людей. На самом деле причины, приведшие в конце концов к вооруженному столкновению народов, много сложнее. На одной стороне уже много лет тому назад зародившегося спора стоял 70-миллионный немецкий народ, сильный избытком населения, крепкий духом, общей культурой и народным трудом. Народ этот почувствовал себя сдавленным собственными границами и, вооруженный до зубов, выразил настойчивую волю к выходу на мировую политическую арену. Это был его новый курс.
На другой стороне – три ближайшие соседки Германии – Англия, Россия и Франция, имевшие существенные интересы вне европейского материка*. Новая немецкая Weltpolitik («мировая политика»), несомненно, грозила каждой из названных стран опасными последствиями, которые, естественно, и вынуждали их защищать свои политические и экономические позиции. Всякий, вероятно, был прав по-своему. При отсутствии возможности примиряющих соглашений вооруженное столкновение являлось в существовавших условиях неизбежным.
В частности, проведение германцами железнодорожной линии Берлин – Багдад, являвшейся одним из звеньев новой мировой политики Германии, включало в себе зародыш неизбежного столкновения с Россией вследствие соединенного с этим шагом стремления к подчинению, через Австрию, немецкому влиянию западных и балканских славян и к непосредственному установлению политического влияния Германии в районе Константинополя и проливов. Я уже не говорю об экономическом внедрении Германии в Персию, где Россия была принуждена сделать Германии серьезные уступки!
Россия, уже принесшая огромные жертвы во имя освобождения родственных ей по крови западных и южных славян, не могла, конечно, по своим историческим и политическим традициям молчаливо присутствовать при постепенном поглощении этих славян лоскутной империей Габсбургов, которая в своей славянской политике опиралась на слишком очевидную поддержку Германии. Грубые и дерзкие приемы венских дипломатов лишь вызывали ускорение конфликта. В русской истории дипломатических отношений с Австро-Венгрией никогда не забудется некорректное поведение Эренталя по отношению к России и бывшему у нас министру иностранных дел А.П. Извольскому в деле присоединения Боснии и Герцеговины. В этом инциденте, несмотря на тяжесть полученной раны, Россия принуждена была к молчанию, ибо то были годы ее военной беспомощности, явившейся результатом неудачной Русско-японской войны и последовавших за ней беспорядков. Но этот же инцидент ясно показал России, что в ее недоразумениях с Австрией германская вооруженная сила всегда будет на стороне последней. Безоговорочно поощряемая Германией, Австро-Венгрия уже мало задумывалась над своими шагами, зная, что ее политическую агонию может продлить лишь успех внешней политики или победоносно законченная война.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу