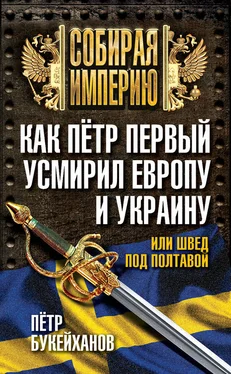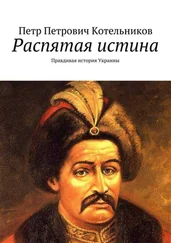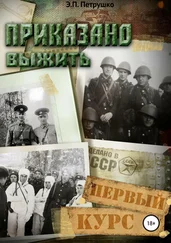В результате 5–6 тысяч шведской пехоты оказались перед необходимостью штурмовать оборонительную позицию, занятую вчетверо сильнейшим неприятелем, имевшим превосходство в артиллерии. Плотность артиллерии с русской стороны составляла от 7 до 10 стволов на километр фронта позиции (осадную артиллерию царской армии можно считать устаревшей, однако большая часть тяжелых пушек осадного парка по приказу Карла д’Кроа осталась на брешь-батареях [353], поэтому в бою приняли участие 50 вполне современных 3-фн полковых пушек, а также около 20 полевых орудий: 12-фн, 10-фн и 6-фн пушки и гаубицы [354]).
В свою очередь, шведская кавалерия должна была обеспечить фланг и тыл от нападения вдвое большей по численности русской конницы.
При таких условиях единственным объективным обстоятельством, указывающим на целесообразность атаки являлась растянутость русской позиции на 7 верст (~7 км) [355], что позволяло шведам создать локальный перевес в силах и средствах на отдельных участках, используя предоставленную им инициативу. Кроме того, субъективно король Карл считал русскую армию гораздо слабее шведской. Однако эти соображения отнюдь не свидетельствовали в пользу немедленных действий. Оперативно-тактический анализ позиции и соотношения сил приводит к выводу о целесообразности усиления резервами за счет гарнизонов местных крепостей, блокирования путей подвоза русской армии, оборудования укреплений на случай русских контратак, проведения инженерных мероприятий по подготовке штурма русского лагеря, координации действий деблокирующих сил и гарнизона Нарвы. По информации Б. Григорьева, фельдмаршал д’Кроа и генерал Алларт, отвечавший тогда за инженерное обеспечение действий русской армии, полагали, что шведы выстроят свой собственный укрепленный лагерь, откуда будут тревожить и ослаблять русских методическими вылазками [356].
Вместо этого шведский король принял решение о немедленной атаке. Шведский писатель и историк Ф. Бенгтссон (Frans Gunnar Bengtsson) отметил по этому поводу в своем труде «Жизнь Карла XII» (швед. «Karl XII’s levnad») следующее: «Он осмелился и преуспел; он был прав, а умные и предостерегающие его оказались не правы».
Источники победы на войне с древнейших времен привлекали внимание людей, вызывая появление многочисленных трактатов по стратегии и тактике. Их авторы с большим или меньшим успехом пытались установить закономерности вооруженного противоборства, на основе которых можно было предложить способы и приемы ведения боевых действий, повышающие вероятность победы. Соответственно, определение таких закономерностей и способов потребовало использования аналитических методов познания действительности, начиная от элементарных индукции и дедукции, вплоть до математического анализа. Взаимосвязь теории и практики обусловила появление аналитических органов, призванных к организации управления войсками, – появились штабы.
Стратегические и оперативные решения при этом стали логически обоснованными, но предсказуемыми. Стороны, использующие практически одни и те же методы аналитического обеспечения организации войны, приходят к одинаковым выводам как по поводу наиболее целесообразных собственных действий, так и по поводу альтернативного поведения противника. В результате возникает известный «кризис аналитичности» [357], который преодолевается с помощью различного рода инноваций, неизвестных другой стороне: новых тактических приемов, новых видов вооружения, новых методов анализа информации и др. Тем не менее, во-первых, инновации практически всегда требуют предварительного вложения значительных ресурсов. Во-вторых, разрыв во времени между отысканием и эффективным применением инновации должен быть достаточно небольшим, иначе противник либо копирует ее, либо примет меры противодействия.
Между тем логический анализ означает нарушение целостного восприятия явлений, их разделение на части, каждая из которых изучается в отдельности, и на основе такого изучения формулируется синтетический вывод, касающийся всего явления. Однако явление в целом в действительности остается во многом не познанным, поскольку при наличии системной связи между частями оно обладает свойствами, отличными от свойств каждой из частей.
Кроме этого, ведение войны связано с таким количеством непредвиденных обстоятельств и постоянной необходимостью вносить коррективы и искать новые решения, что заранее всего не проанализируешь и не спланируешь, тем более по каждому возможному поводу. Вот здесь и выступает на первый план субъективный фактор личных способностей и межличностных отношений. В условиях недостатка информации военачальник вынужден принимать решения, используя, прежде всего, свой опыт и интуицию, а затем, несмотря на возражения и сомнения вышестоящего руководства и подчиненных, упрямо следовать принятому решению, так как сомнения и неопределенность обычно приводят к худшим последствиям, чем ошибки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу