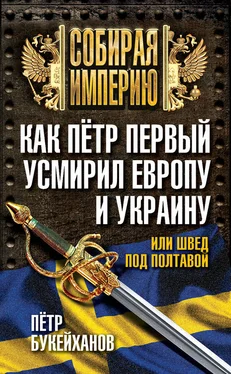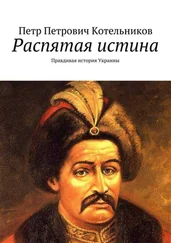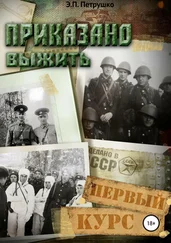Многие признаки поведения, обнаруживаемые у Петра I, характерны именно для описываемых Э. Кречмером гневно-тупых шизоидов. В частности, помимо государственной и политической тирании, стремления исправить мир в соответствии со своими принципами, многими странностями и причудами, поведение Петра отличалось и феноменальной жестокостью. Одним из внутренних мотивов этой жестокости выступала примитивная мстительность. В полном соответствии с психологическими особенностями психотических личностей данного круга, испытав унижение, Петр никогда не прощал этого и стремился физически уничтожить обидчика.
Так, в 1696 году, при взятии русскими турецкой крепости Азов, в числе условий сдачи крепости царь специально оговорил выдачу своего бывшего приближенного «Якушки», голландца Якова Янсена (Jacob Jansen), который перебежал к туркам во время предыдущей осады Азова в 1695 году, стал янычаром и принял ислам. Переданный русским Янсен осенью был привезен в Москву и казнен колесованием и четвертованием – последовательным переламыванием и отрубанием конечностей [274].
В 1697 году, после раскрытия заговора полковника Ивана Циклера (Циклер был также колесован и четвертован), Петр приказал вырыть захороненный в 1685 году труп Ивана Милославского – главы боярской партии, поддерживавшей царицу Софью, и в открытом гробу, запряженном 12 свиньями, подвезти его под эшафот, на котором четвертовали заговорщиков, так, чтобы их кровь лилась на сгнившего покойника [275]. В период с сентября 1698 по февраль 1699 гг. были казнены около тысячи взбунтовавшихся против условий службы стрельцов, причем царь лично отрубил некоторым головы, а трупы казненных оставались на виселицах, плахах и колах пять месяцев (195 из них висели непосредственно на стенах Новодевичьего монастыря – так, чтобы их могла видеть содержавшаяся там царевна Софья; всего по делу о стрелецком бунте и заговоре с целью воцарения Софьи проходили 1714 стрельцов, а также несколько десятков членов их семей и доверенные люди Софьи, которых пытали дыбой и каленым железом в четырнадцати застенках в селе Преображенское, причем, по свидетельству очевидцев, сам царь Петр с видимым удовольствием присутствовал при допросах) [276].
В 1704 году, после взятия крепости Нарва, упорно оборонявшейся комендантом генералом Хеннингом Рудольфом Горном (шведск. Хурн, Henning Rudolf Horn), царь плакал, увидев во рвах множество трупов солдат своих гвардейских полков, и в отместку приказал бросить в реку труп убитой русскими солдатами жены Горна – графини Елены Шперлинг (Сперлинг, Helen Sperling, дочь фельдмаршала Горана Шперлинга (Göran Sperling), который умер в Нарве в 1691 году . – П. Б. ) [277], а самого генерала содержать в тюремных условиях (при штурме Нарвы 9 августа 1704 года русские потеряли 1340 человек ранеными и 359 – убитыми [278], то есть больше, чем, например, шведская армия потеряла в битве под Клишовом; поэтому, утешая Петра, фельдмаршал Борис Шереметев сказал тогда, что плакать не стоит, поскольку бабы новых нарожают; родственники графини Шперлинг графы Каспар и Якоб Шперлинги участвовали в походе короля Карла XII в Россию, и оба погибли при штурме крепости Веприк в феврале 1709 года, будучи командирами Скараборгского и Эстгетского пехотных полков). Население Нарвы и прилегающих районов по приказу Петра было насильственно депортировано в Казань, Астрахань, Вологду и Москву, причем обратно после окончания активных военных действий вернулась только шестая часть местных жителей [279].
После Полтавской битвы в руки царя попал силезский немец – бригадир Максимилиан Мюленфельс (Миленфельс, Мюленфельд, Миленфельзен, Maximilian Heinrich Mühlenfels, поступил на русскую из австрийской службы в 1704 году в звании подполковника на должность командира Казанского драгунского полка), в свое время подкупивший стражу и 4 февраля 1708 года бежавший из-под расстрела по приговору русского военного суда, вынесенного Мюленфельсу за то, что он, командуя отрядом из 2000 солдат и офицеров, 27 января 1708 года был отброшен отрядом из 800 кавалеристов во главе с Карлом XII, причем русские не смогли разрушить мост через реку Неман, доставшийся шведам в исправном состоянии [280]. По данным русских источников, всего за два часа до нападения шведов, из Гродно уехал сам царь Петр, который заподозрил короля Карла в желании взять его в плен и решил адекватно ответить противнику тем же способом. В трактовке Б. Григорьева, после потери моста Мюленфельс был отправлен царем Петром обратно в Гродно, к тому времени уже занятый шведским авангардом из 650 кавалеристов во главе с Карлом XII, чтобы ночным нападением вернуть город и взять в плен или убить Карла, но Мюленфельс руководил операцией очень нерешительно, допустил остановку своего отряда из 3000 солдат и офицеров при столкновении с шведским патрулем, что позволило противнику собрать силы, приготовиться к бою и атаковать русских, после чего Мюленфельс вновь приказал отступить [281]. После побега от русских Мюленфельс примкнул к шведской армии в качестве волонтера, участвовал в Полтавской битве, был ранен и взят в плен, вновь отдан под суд и в июле 1709 года посажен на кол перед строем шведских военнопленных в Решетиловке [282](по утверждениям русских источников – расстрелян («архибузирован») 17 июля [283]).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу