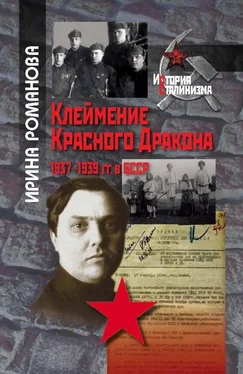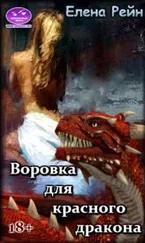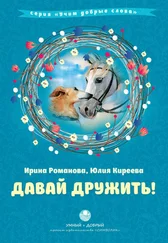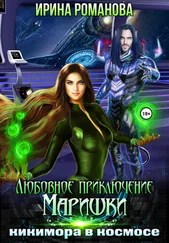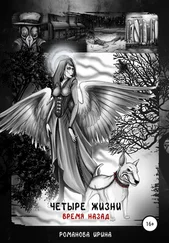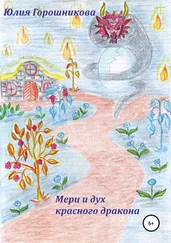А. Яковлев. «О недопущении повторения дел, аналогичных Лепельскому» говорилось на всех уровнях, на это дело ссылались в своих речах и статьях руководители СССР, оно звучало во время московских процессов над правотроцкистским центром, о нем писали центральные газеты «Правда» и «Известия». «Лепельское дело» фигурирует в записке Н. М. Шверника Н. С. Хрущеву «Об участии Г. М. Маленкова в проведении репрессий в Белорусской ССР» от 12 мая 1958 г.
[3] Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Т. 2. Февраль 1956 – начало 80-х годов. М., 2003. С. 310–312.
В начале 1937 г. в фокус внимания центра попало то, что на языке того времени называлось «нарушение социалистической законности в отношении трудящегося крестьянства». В СССР разворачивалась кампания по выявлению таких фактов на местах и организации показательных судебных процессов над виновными. Популистский сценарий этого политического театра в сельском хозяйстве выглядел следующим образом: местные руководители (секретарь райкома партии, главный агроном, районный зоотехник, директор МТС, завфинотделом и «их приспешники») объединились в «семейные кружки» и направили свою враждебную деятельность на провоцирование недовольства крестьян против советской власти. Но И. В. Сталин узнал об этом и заступился за крестьян, наказал виновных [4] Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010. С. 280–281.
. Во время таких судов крестьянам показывали, что называется, врага в лицо – конкретных виновников сложившейся ситуации в каждом отдельном районе, колхозе, деревне. Важно отметить, что «трудящимся крестьянством» во время этих событий называли не только колхозников, но и тех, кто не вступил в колхозы – единоличников, еще совсем недавно они классифицировались исключительно как кулаки или подкулачники – реальные или потенциальные враги советской власти, которым не было места в социалистическом обществе. Первый показательный суд над виновниками нарушения революционной законности состоялся в Лепеле. Вполне вероятно, что в качестве первого и подлежащего показательной порке мог быть выбран любой другой район СССР, поскольку то, что происходило в Лепеле, являлось распространенной повсеместно практикой.
В широком смысле политика, обозначенная в источниках как «наказание за нарушение социалистической законности », означала, что режим карал за те действия, которые он незадолго до этого не только допустил, но и ожидал от своих институций и кадров [5] Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы: В 5 т. T. 5: 1937–1939. Кн. 1 / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг. M., 2004. С. 47.
: коллективизацию и выполнение всех норм поставок продукции надлежало обеспечить любыми методами.
Включение широких крестьянских масс в так называемую борьбу против местных «кланов», которые теперь квалифицировались как представшие перед судом преступники, имело целью, очевидно, интеграцию крестьян в проводимые мероприятия на стороне властей. А это, в свою очередь, требовало большой публичности и театральности. Показательные судебные процессы в сельском хозяйстве попали в поле зрения исследователей после выхода статьи Ш. Фицпатрик «Как мыши кота хоронили» в 1993 г. [6] Показательные судебные процессы над руководством районов Ш. Фицпатрик назвала карнавалом, а статью, посвященную им, назвала «Как мыши кота хоронили» (Fitzpatrick Sh. How the Mice Buried the Cat: Scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces // The Russian Review. 1993. Vol. 52. № 3. Р. 299–320), которая затем вошла в ее книгу: Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. N. Y., 1994, русский перевод данной книги вышел в 2001 г. – Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне: социальная история советской России в 30-е годы: деревня.
Затем эта статья вошла в книгу «Сталинские крестьяне», где автор сквозь призму повседневных стратегий исследует жизнь крестьян в период после завершения коллективизации. Мое исследование в значительной степени было вдохновлено именно этой работой. Вместе с тем исследователи сталинизма, отдавая должное работе Ш. Фицпатрик в целом, категорически отказывались признать правомерность описания данных судов с отсылкой к концепции карнавала М. М. Бахтина, или как назвала это Фицпатрик: карнавальная инверсия или «советская версия карнавала», когда верх и низ поменялись местами, в роли пострадавших, обвинителей и основных зрителей – крестьяне, а на скамье подсудимых – начальники; а массы получили возможность кратковременного «выпускания пара» без существенного изменения положения в дальнейшем [7] Fitzpatrick Sh. How the Mice Buried the Cat… Р. 302.
. Критики Фицпатрик небезосновательно настаивали на том, что все эти суды были инициированы сверху и едва ли возможно их описывать в понятиях карнавала [8] Например, Ellman M. The Soviet 1937 Provincial Show Trials: Carnival or Terror? // Europe-Asia Studies. 2001. Vol. 53. № 8. P. 1221–1233; Верт Н. Террор и беспорядок. С. 268.
. Собственно, ни с одним их этих утверждений Ш. Фицпатрик и не спорила, но она настаивала на том, что изучение террора необходимо вести не только «сверху», здесь наши знания ушли далеко вперед, что наиболее значительные достижения в нашем понимании этого феномена были достигнуты именно там, где фокус сужался до конкретных явлений и процессов. Она отмечала: «Когда мы лучше поймем, как работали разные процессы террора в 1937–1938 годах, у нас будет больше возможностей судить, действительно ли мы должны мыслить в терминах единого явления, и если да, то как это явление должно быть охарактеризовано и объяснено» [9] Fitzpatrick Sh. A Response to Michael Ellman // Europe-Asia Studies. 2002. Vol. 54. № 3. Р. 473–476.
.
Читать дальше