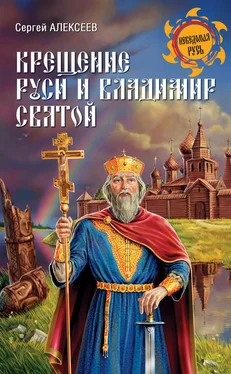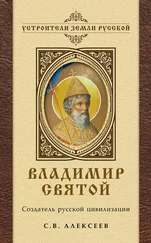Прославили Олава и набеги на Готланд и Эланд – богатые острова у берегов Швеции, жившие торговлей и викингскими набегами. Разгромив островитян, он вынудил их платить дань в свою пользу. Какая-то часть этой дани, несомненно, приставала к рукам рачительного Ярослава Владимировича. Так что Новгород трудами своего князя и его юного гостя возвращал себе едва ли не с прибылью те триста гривен, что ежегодно шли за море «ради мира». Олав совершил серию набегов также на земли куров (запад современной Латвии, Курляндия), доселе не плативших дань Руси. В нескольких битвах разгромив местных обитателей, он заполучил богатую добычу.
Владимир не одобрял викингских разбоев. Но в нынешней обстановке Олав Толстый, как и его тезка десятилетия назад, оказывался ценным приобретением. Эсты, куры и прочие прибалтийские племена – не говоря уже о викингах из Скандинавии – сами были далеко не безгрешны. Если Олав в интересах Руси умерял их собственное пиратство, то препятствовать этому смысла не имело. Сына Харальда Гренландца сближало и с Владимиром, и с «Рогнедичем» Ярославом общее желание отмстить шведам за гибель Всеволода. Если месть вершилась – а Олав часто поворачивал корабли к шведским берегам и небезуспешно сходился в бою с королевской ратью, – руками норвежского «морского конунга», то так тому и следовало быть. Русь этой войны сама не вела и не навлекала на себя новых набегов. От них заслоняла и снова богатевшая, наполнявшаяся войсками за счет славы и успехов Олава Ладога.
Беспокойства, причиняемые Олавом, со временем стали осложнять жизнь и датским конунгам. Особенно когда молодой норвежец отправился по следам своего прославленного тезки в Англию, сражаться за англосаксов против датских завоевателей. Любые осложнения датчан, мешавшие им создать в северных морях единую викингскую империю, были Руси на руку. Наконец, мужавший при русском дворе честолюбивый норвежец мог стать претендентом на престол Инглингов. Это возвращало надежды на распространение в Скандинавии русского влияния.
Нейтрализовав врагов на Севере, Владимир внезапно получил и возможность умиротворить печенегов. Явилась эта возможность в лице родовитого немецкого миссионера Бруно Кверфуртского. Выходец из семьи графов Кверфуртских, Бруно принадлежал к числу истинных подвижников христианства. Для него даже высокие политические интересы Западной империи отступали перед нуждами распространения новой веры. Своим долгом Бруно считал обращение тех народов, которые пребывают еще в язычестве. Идеалом его был пражский епископ Войтех, крестивший Польшу и Венгрию, проповедовавший пруссам и убитый ими в 997 году. Бруно надеялся преуспеть больше или стяжать мученический венец. Скорее даже последнее – частое среди латинских миссионеров, хотя и кажущееся теперь необычным стремление. Один из первых проблесков той запредельной религиозной экзальтации, мечты об одномоментном рывке к лику Господнему, которой пронизана история средневекового латинского Запада, – в отличие от ровно и размеренно, каждодневно живущего во имя Господне православного Востока.
Такая-то мечта влекла Бруно на языческий восток Европы. Бывший капеллан императора Оттона III, при его преемнике Генрихе II Бруно пришелся не ко двору. Выступая против постоянной вражды императора с поляками, Бруно покинул двор. Поддержанный польским князем Болеславом, с которым сблизился, энергичный немец проповедовал христианство в новокрещеной Венгрии и в исстари враждебной гнезненским князьям Пруссии.
Осенью 1007 года Бруно, разочаровавшись в попытках добиться искреннего обращения восточных «черных мадьяр», решил заняться обращением печенегов. Первым делом он прибыл ко двору Владимира – быть может, с рекомендациями от его зятя Ласло Лысого. По весне Бруно собирался отправиться к печенегам. Владимир, однако, не верил в возможность обращения кочевников – и был, заметим, в целом прав. Целый месяц он едва не насильно удерживал гостя от отъезда. «Не ходи, – убеждал он Бруно, – к столь безумному народу, где не обретешь новых душ, но одну только смерть, да и то постыднейшую» [2]. Бруно, на взгляд князя, был еще молод – ему едва исполнилось тридцать. Однако он продолжал настаивать. Наконец, Владимиру явилось некое видение, связанное с немецким проповедником, он устрашился и решил его отпустить. Князь, конечно, был тронут миссионерским усердием латинского монаха и искренне за него беспокоился. Видение же убедило Владимира, что Бруно ведом Богом – хотя он и страшился, что к мученичеству.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу