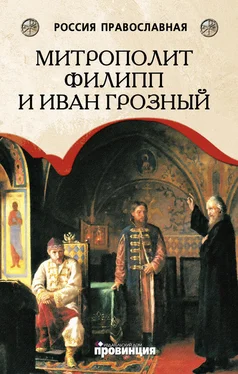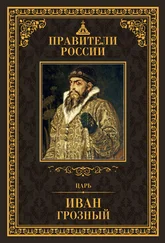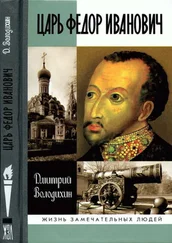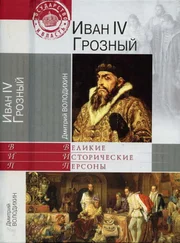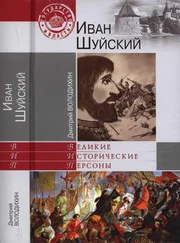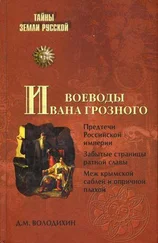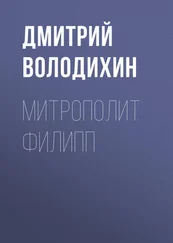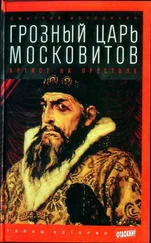В истории русского иночества и прежде бывали случаи, когда настоятель оставлял обитель, положив пастырский жезл. Так, сам преподобный Сергий Радонежский покинул Троицкий монастырь, увидев ревность к своей настоятельской власти и ропот на строгость устава. Впоследствии, опамятовав, его призвали назад. Вероятно, и Филиппов очередной уход в пустынножительство объясняется разладом в общине.
Надо полагать, новый игумен собрал монахов и объяснил им, какими преобразованиями хочет заняться. Сила привычки на первый раз победила: сомнения иноков, их колебания или даже прямое неприятие планов Филиппа огорчили его. Спорил ли он? Убеждал ли в своей правоте братию, обязанную «со всяким послушанием покоряться»? Кто знает?! Однако в конце концов сделал так, как диктовала его душевная склонность.
Филипп не хотел разрушать дух любви, царивший в обители. Ему легче было вновь проститься с собственными затеями, чем оказаться у истоков большой свары. Он уступил. Он ушел. И, надо полагать, жил спокойно, ничуть не надеясь на перемену ума соловецкой братии. Напротив, скорее, радовался: ему удалось сохранить покой любви в сердце своем, не расшатать его в других людях и уберечься от власти. Теперь он жил так, как ему нравилось…
Филипп никогда, ни при каких обстоятельствах не проявлял властолюбия – даже в самых ничтожных дозах. Он трудно принимал власть и легко отказывался от нее. Пастырское бремя было ему в тягость. Водружал он его на свои плечи лишь по принуждению. Этот соблазн его не беспокоил – как видно, Филипп ясно видел природу душевной порчи, от него происходящей.
Игумен Алексий, и прежде правивший обителью, страдая от постоянного нездоровья, скончался. Лишних полтора года ему пришлось нести на своих плечах бремя власти над обителью – от удаления Филиппа в пустынь до самой смерти. Теперь, когда прежний игумен покинул мир земной, а в пределах получаса ходьбы от обители жил новый настоятель, отправлять к владыке Новгородскому посольство, чтобы тот поставил в сан еще одного, братии было крайне неудобно. К тому же, как видно, идеи Филиппа нашли немало сторонников. Поэтому после кончины Алексия иноки «…сотвориша совет благ, начаша молити Филиппа, да старейшинствует над ними и окормляет добре живот их».
Помня о старом опыте краткого игуменства, Филипп повиновался им «нехотя». Он понимал: тихая пустынническая жизнь для него кончена. Настало время засучить рукава перед большими трудами да готовиться к сопротивлению недовольных.
Быть может, Филипп в очередной раз отказался бы от начальственного положения. Но Алексий, предполагая такой шаг, незадолго до смерти призвал его к себе и благословил на игуменство. Видно, не нашел старик среди монахов Соловецких никого более подходящего на эту роль. Отказать умирающему настоятелю в исполнении последней воли или, тем паче, обмануть его – вот уж был бы великий грех!
Итак, Филипп становится настоятелем. Теперь нет ему возврата. Он честно понесет этот груз и будет выдерживать его тяжесть на протяжении двух десятилетий. Твердо известно, что в июле 1546 года он окончательно утвердился на игуменстве, а настоятель Алексий отошел в мир иной. С этого момента Филипп руководит монастырем непрерывно. Лишь летом 1566 года «хозяин Соловков» сойдет с игуменства, чтобы взойти на митрополию.
Филипп начал на Соловках грандиозное строительство, полностью изменившее облик монастыря, его роль в жизни Русского Севера и образ жизни братии. То величие обители, та роскошь ее архитектуры, которые в наши дни привлекают на острова тысячи туристов и паломников, уходят корнями к игуменству Филиппа.
А началось всё со строительства каменного храма Успения Богородицы, возведенного взамен старого, деревянного.
Для этого весь монастырь должен был на протяжении нескольких лет предпринимать усилие, которое иначе как подвижническим назвать нельзя. Житие сообщает о сооружении Успенской церкви немногое. В 7060 (1551/1552) году, посовещавшись с братией, Филипп начал строительные работы. Игумен пригласил новгородских зодчих во главе со знатными мастерами Игнатием Салкой и Столыпой. О первом из них шла добрая слава, мол, «горазд и мудр церковному делу».
Великая «страда» длилась около пяти лет. В 1557 году Успенский храм был возведен и отделан как подобает. 15 августа Филипп освятил его. «На полатех» церкви соловецкий настоятель велел устроить особый придел, освященный в память Усекновения главы Иоанна Предтечи. К весьма значительной по размерам хоромине пристроили каменную трапезную для братии, келарскую палату (склад), большой хлебный погреб, «…и иные многие службы монастырские благостройни бяху». Здесь пекли хлеб, здесь же стояли печи, предназначенные для обогрева трапезной и самой Успенской церкви.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу