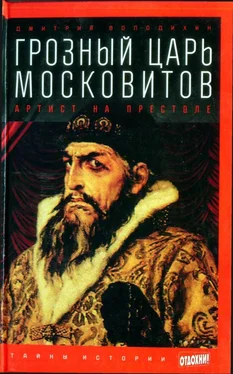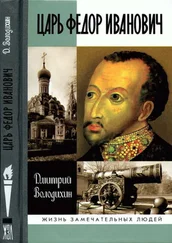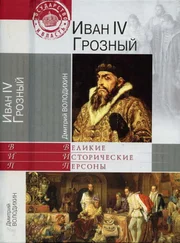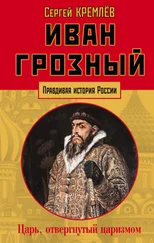Иван Грозный и Сталин.
Эти два имени в сознании образованного русского связаны нерасторжимо.
Дело здесь не только в том, что оба возглавляли масштабный государственный террор. И не только в том, что оба правили страной в годы ее величия. И уж подавно не в том, что оба следовали тираническому образу правления.
Нет.
Прежде всего, оба воспринимаются как люди-горы. Как титанические фигуры, переворачивавшие колоссальные глыбы, изменявшие мир, изумлявшие и пугавшие его. Для миллионов русских обе эти персоны выглядят словно инеистые великаны из древнескандинавской мифологии, ожившие в недрах российской государственности. Они поставлены на пьедестал ужаса и преклонения. Их рост завораживает. И первый, и второй делали свое дело, стоя по колено в крови, но даже это притягивает к ним особенное внимание — как взгляд удава притягивает слабые обезьяньи души…
До такой степени близки Иван Грозный и Сталин, до такой степени схожие связаны с ними страхи и надежды, что порой в текстах, им посвященным, черты одного переносятся на другого. Русский читатель, даже если это хорошо образованный гуманитарий, неосознанно желает увидеть некий общий архетип: во френче, с трубкой, в шапке Мономаха, с легким кавказским акцентом и на молебне в Успенском соборе Кремля. Величественный, неспешный в движениях, уставший от помыслов о государственном благе человек — если смотреть на него с одной стороны интеллектуальных баррикад. И угрюмый, резкий, утомленный пыточными делами, безразлично поскребывающий кровавое пятнышко на мантии — если смотреть с другой стороны. Странное существо… можно сказать, таинственное.
Привычное «скрещивание» двух образов — одна из величайших иллюзий нашего времени. Эти два человека ничуть не похожи друг на друга.
Первый русский царь был натурой нервной, артистической, крайне эмоциональной. Он как будто полжизни провел на театральных подмостках и при всяком публичном выходе заботился о том, каким будет его сценический облик. Играл громово и создал образ вочеловечившейся бури. Всякое лицо, оказывавшееся поблизости, служило частью антуража, живой декорацией. Настоящая горячая кровь, пролитая в царствование Ивана Васильевича, — и та, наверное, в глазах его выглядела киноварью, использованной при начертании летописных миниатюр. Блистательный артист, он время от времени забывал о целях игры и выше ставил произведенное на публику впечатление, нежели практический результат.
Важнее — «как посмотрят, что запомнят», важнее «признание», а вовсе не реальный эффект предпринятых действий. Важнее истинный порядок игры, чем глубинные основы бытия. И горе тому, кто нарушит этот порядок, утвердившийся в сознании государя…
Не надо искать в нем величавой неспешности, размышлений над многоходовыми задачами. Не надо искать твердой логики в поступках. Это стратег, но стратег стихийный, иррациональный. Шторм! Натиск! Эмоция, поднятая на пьедестал государственной политики! Легкий переход от благочестивейшего образа мыслей к порочнейшему и обратно. Неистовое согрешение и неистовое сокрушение о грехах. Ранимость. Яростное неприятие всякого несогласия, всякой критики. Стремительные скачки от истерики к явлению несокрушимой силы. Да и сама истерика, быть может, очень хорошо контролировалась с самого начала… Самолюбование. Осознание собственного ничтожества. Сомнения, колебания… взрыв! Быстрое, кипящее, звонкое сотворение новых смыслов и прекрасных образов. Площадная брань. Тонкая интуиция, позволяющая моментально ухватить суть явления. Необузданное свирепство. Ураганная риторика — то изысканная, то безобразная.
Никаких компромиссов! Биться до конца, гнуть свою линию несмотря ни на что. Бешено ломать неприятеля, не сдерживая себя ни в чем… если он сам первым не переломит хребет. Но и тогда, хрипя от бессилия, мечтать о реванше.
Это совсем не близко к личности Сталина. Гораздо ближе такая натура к Павлу I — еще одному артисту на троне. И может быть, к Троцкому — оратору, мечтавшему о троне, но так на него и не поднявшемуся.
И русское сознание вот уже несколько поколений тщится сгладить, адаптировать для себя этот неистовый артистический психотип. Слишком уж он неорганичен для русской жизни, слишком разрушителен для древних основ ее: артист, сокрушающий декорации в порыве творческого экстаза… Настоящий Иван IV, великий и ужасный, грозный и ярый, словно магическое существо, отводит от себя прямой взгляд. Он будто загораживается защитной пленкой, искажающей и облагораживающей его черты. Царь-юродивый в исполнении Мамонова был щемяще точным проникновением в суть его личности. И — все общество отвернулось от этого портрета в едином порыве, хотя и по разным причинам.
Читать дальше