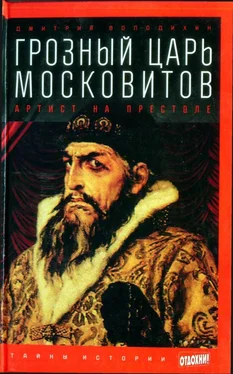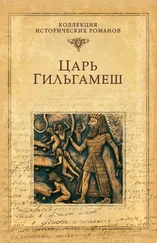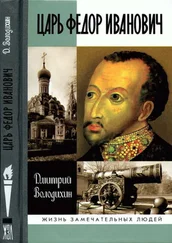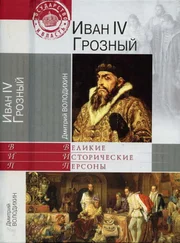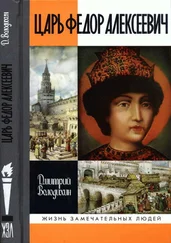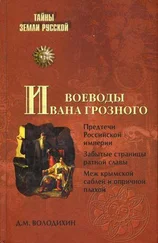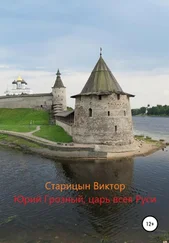Нетрудно представить себе среду, в которой могли зародиться подобного рода сказки.
Московскую знать, настроенную на политические игры вокруг престола, который должен был опустеть после смерти бездетного Василия III, разочаровали его развод и новый брак. Именно знать, по всей видимости, и распускала слухи, порочащие великого князя и его супругу. Сплетни эти дошли до ушей Герберштейна.
Кто известен в числе противников развода Василия III и его второго брака?
Прежде всего инок Вассиан Патрикеев. Он сам происходил из знатнейшего аристократического рода, был близок семейству Сабуровых и славился неблагожелательным отношением к суровому правителю Василию III.
Затем преподобный Максим Грек, на которого вряд ли может падать подозрение в связи с московской аристократией, — но с Иваном Даниловичем Сабуровым доброе знакомство он водил.
И… князь Семен Курбский, брат деда князя Андрея Курбского! Выходит, один из ярых противников второго брака Василия III, князь Семен Курбский, сохранил эту нелепую историю в своей семье как старинное предание, которым потом воспользовался его отдаленный родич Андрей Курбский. Насколько достоверным является свидетельство Курбского? В двух словах — совершенно недостоверным. В основе своей оно восходит к истории непосредственного участника событий 1525 года, заинтересованного в определенном толковании собственной роли. Возможно, Андрей Курбский опирался также и на историю Герберштейна, которую хорошо знал. Князь-диссидент ненавидел Ивана IV — сына Василия III от второго брака, то есть и сам был, что называется, заинтересованным лицом.
«История о великом князе Московском» появилась через много десятилетий после развода Василия III и, соответственно, изобилует ошибками. Не 26 лет длился брак великого князя и Соломонии Сабуровой, а 20, да и не в Каргополье отправили ее после пострижения, а в Суздаль. Об этом сообщает большинство летописей середины XVI столетия, в том числе независимая Вологодско-Пермская летопись: «В лето 7034 декабря князь великий Василий Иванович велел постричь в черницы свою великую княгиню Соломаниду и послал в Суздаль… к Покрову Пречистые в девичь монастырь». Мрачными красками обрисованная «темница» бывшей государыни — просто плод воображения Курбского. Как известно, Василий III сохранил к прежней супруге доброе отношение и даже пожаловал ее, уже ставшую старицей Софией, селом Вышеславским Суздальского уезда в 1526 году, с условием передачи села после ее смерти игуменье и келарю обители. Его грамота получила подтверждение в 1534 году. А за несколько месяцев до того Василий III пожаловал Покровскому монастырю село Павловское того же уезда на особых, льготных условиях. Сиди инокиня София в «тесном» заточении, разве понадобился бы ей доход с богатого села? Нонсенс.
До какой степени развод Василия III и его второй брак соответствуют нормам канонического права XVI столетия — вопрос, нуждающийся в оценке специалиста с богословским образованием. В начале XVII века в московской приказной среде, близкой к дипломатическому ведомству, возникла «Выпись» о втором браке Василия III — богословско-публицистический трактат. В нем с точки зрения отдаленных потомков дается оценка действий великого князя, его приближенных и митрополита Даниила. В сущности, речь идет об осуждении второго брака Василия Ивановича, как неканоничного и повлекшего за собой небесные кары для династии и всей страны.
По мнению крупнейшею знатока того периода А. А. Зимина, «…разбор реалий (сведений о событиях и лицах), имеющихся в „Выписи“, приводит к выводу, что в этом памятнике содержится причудливая смесь достоверных фактов и совершенно ошибочных данных, касающихся самого стержня повествования». В частности, там сообщается об отрицательном мнении преподобного Максима Грека, инока Вассиана Патрикеева, некого чернеца Селивана, Саввы Святогорца и книжника Михаила Медоварцева. Поддержали второй брак сам митрополит, Коломенский епископ Вассиан Топорков и некоторые другие представители русского духовенства. Все это более или менее подтверждается другими источниками. Однако дальнейшее вызывает сомнения: «Выпись» сообщает о послании, отправленном четырем вселенским патриархам, с просьбой высказать мнение по этому вопросу. И они единомысленно отрицают возможность развода и второго брака в подобных обстоятельствах, особенно же строг патриарх Иерусалимский Марк. Никаких патриарших грамот, касающихся этой проблемы, не найдено. Неизвестно, существовали они на самом деле или же были плодом воображения поздних публицистов…
Читать дальше