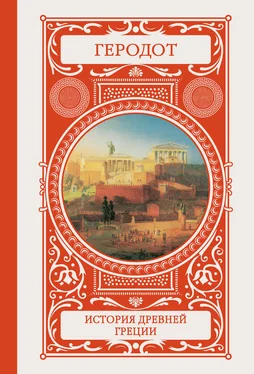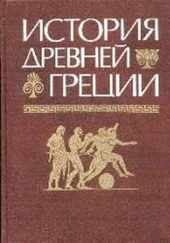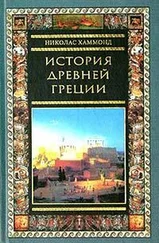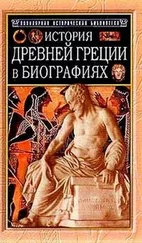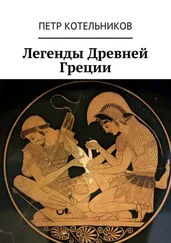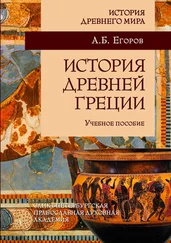Но историческое и археологическое изучение делало новые успехи, которые не замедлили обнаружить некоторые неточности и пробелы в первоначально добытых результатах, а вместе с сим стала умаляться и достоверность известий Геродота, не только относительно Египта или Ассирии, но в значительной мере и Эллады. Самое изучение Геродота становилось все более детальным и критическим. В результате получалось такое определение роли Геродота в истории наших знаний вообще и умственного движения древних эллинов в частности, которое больше прежнего согласовалось с общим понятием об умственном состоянии общества в эпоху древнего историка и с его личными качествами, наложившими оригинальную печать на весь его труд. Не только специальные монографии, но и общие курсы по истории Востока Дункера, Ленормана, Масперо отмечали немалое количество неточностей и ошибок в изложении древнеэллинского историка. Даже в тех частях «Истории», которые имеют своим предметом судьбы эллинских городов, обнаружились в некоторых случаях односторонность изображения, пристрастие к отдельным личностям и государствам. Вложенные в уста действующих лиц речи оказались почти без всякого исключения сочиненными автором или заимствованными от других и рассчитанными единственно на то, чтобы высказывать и доказывать собственные теолого-моралистические воззрения на мир и человека, на его счастье и т. п. предметы, лично интересовавшие историка; или же составленными с художественной целью оживить рассказ драматическими сценами. Оказалось, что некоторые предания занесены были Геродотом в свою историю, невзирая на содержащиеся в них хронологические несообразности, только ради поучения читателя о божеском мироправлении или о превратности человеческой судьбы, другие для возвеличения подвигов эллинов за счет врагов их, персов, третьи, как например рассказ о походе Дария в Скифию, несмотря на топографическую и хронологическую невозможность, принимались историком только благодаря слабости его к грандиозному и необыкновенному и его вере в то, что «божество карает всякое уклонение от умеренности» (ср.: прекрасный мемуар Веклейна «Über die Tradition der Perserkriege», 1876). В истории Египта оказались грубые ошибки в наименованиях и порядке царей. Так, например: вероятно потому только, что пирамиды Гизеха осмотрены были после сооружений Мемфиса, строители пирамид Хеопс, Хефрен и Микерин поставлены в историческом обозрении фараонов после Рамсеса III, Рампсинита по Геродоту, тогда как на самом деле первые предшествовали последнему чуть не за 3000 лет. Нарицательное имя фараона превращено в собственное, Ферон; финикийская Астарта в Египте принята за супругу Менелая Елену; священное изображение символической коровы сочтено за гробницу дочери Микерина; неточно измерены упоминаемые пирамиды, рядом с островом Элефантиной не назван город того же имени; размеры некоторых морей, будто бы измеренных самим автором, сильно увеличены и т. д. В отделе Ассирии и Вавилонии также допущены существенные неверности и несообразности, подчас трудно согласуемые с личным посещением территории этих государств.
Все эти и некоторые другие подобного рода ошибки и неточности Геродота, отмеченные в специальных исследованиях ориенталистов и эллинистов, не могли долго оставаться неизвестными и филологам, комментаторам нашего автора; но пока только один из них, Штейн, приложил к тексту Геродота от первой до последней книги критический способ объяснения, и то далеко не вполне и не везде с одинаковой последовательностью, что объясняется, впрочем, назначением его издания преимущественно для средних учебных заведений. Штейну принадлежит важная заслуга строго критического установления текста на основании нового самостоятельного тщательного сличения и оценки относительного достоинства всех рукописей сочинения Геродота и привлечения к реальному объяснению его значительной доли добытых ориенталистами результатов. В обоих отношениях издание Штейна составляет эпоху в истории восстановления «отца истории» в настоящем свете. В подстрочных немецких примечаниях к тексту читатель находит в этом издании немало существенных поправок к известиям историка, указаний на противоречия и хронологические несообразности. Особенно выдается в этом отношении II книга Геродота, для комментариев к которой издатель воспользовался главным образом трудами египтологов Бругша и Видемана. Общее мнение Штейна об историке выражено в следующем месте его «введения»: «Геродот столь же мало удовлетворяет требованиям строгой и достоверной истории, как и любой из его предшественников и современников, в смысле осмотрительного собирания и оценки наличного исторического материала, выбора предметов и событий на основании одинаковых, соответствующих задаче принципов, отделения в предании существенного и главного от второстепенного и случайного, точного установления времени и хронологической последовательности и даже в смысле достаточно глубокого понимания предметов и личностей, внутренней связи и побудительных причин».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу