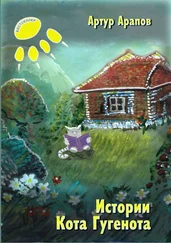Вопрос о праве церкви на специальные подати с населения и различные иные церковные поборы с верующих. поставлен был гуситами в четвертой пражской статье, в которой шла речь о наказании за смертные грехи: «чтобы смертные грехи, и особенно явные, и иные непорядки, противные закону божьему, — …были в каждом сословии подавлены и искоренены «подобающим образом теми, кому этим ведать надлежит» [805] «Archiv ceský», dil 3, c. 216.
. Подробно перечислены те смертные грехи, которые характерны для духовенства: симония, продажность церкви, т. е. взимание денежных поборов за различные церковные обряды — за крещение, конфирмацию, исповедь, причащение, венчание, заупокойные обедни, за погребение, за освящение церквей, алтарей, за. получение духовных званий, денежные поборы при купле-продаже индульгенций и иные. У светских людей к этим грехам были отнесены такие, как разврат, обжорство, пьянство, ложь, ростовщичество, т. е. опять-таки главным образом те пороки, которые характерны для привилегированных феодальных и патрицианских, слоев населения.
Борьба за дешевую церковь, как это вытекает из приведенного нами материала, проявилась в четырех пражских статьях с исключительной силой. Однако отметим попутно, что в тексте четырех пражских статей сказалась и умеренность тактики правых гуситов. В отличие от таборитов, они считали, что наказывать за смертные грехи должны те, «кому это ведать надлежит», т. е. специальные лица, уполномоченные на это властями, т. е. судьи.
Бюргерская оппозиция выдвигала также требование прекратить взимание с населения платежей и поборов в пользу церкви как феодального землевладельца, например, уплату чинша-урока, как его называли в Чехии Как известно, чинш взимался во всех феодальных владениях, светских или церковных. Требование прекратить взимание чинша было по тому времени весьма радикальным, так как в нем содержалось в известной степени покушение на права владельцев поместий вообще. Однако умеренные гуситы были в данном вопросе весьма непоследовательны и быстро отказались от требования отмены чинша. Больше того, идеологи этого лагеря выступили против требования радикальных таборитов прекратить взимание любых феодальных платежей и повинностей с крестьянства в пользу панов. Широкое распространение и всеобщее признание среди гуситов получило требование отмены десятины в пользу церкви.
Было бы, разумеется, ошибочным исходить только из планов и требований бюргерской оппозиции, не привлекая материалов, которые показали бы нам, как дворяне и бюргеры-гуситы действовали на практике и каковы были объективные результаты тех изменений, которые все же произошли в отношениях к собственности. К сожалению, состояние источников позволяет нам охарактеризовать этот вопрос лишь частично и почти исключительно на материале Праги и ее окрестностей, поскольку регистрация земельных владений и различных операций с ними производилась тогда только в городских книгах столицы.
Сразу же после победы над участниками первого крестового похода, 26 июля 1420 г., Пражская община конфискует имущество горожан [806] «Archiv ceský», dil 3, c. 356.
, бежавших из столицы во время вторжения крестоносцев, т. е. оказавшихся в числе прямых врагов гуситов. Отметим, что уже к середине 1420 г. из Праги эмигрировало до 700 семей магнатов и патрициев. 30 января 1421 г. Пражская община вынесла решение о прекращении уплаты долгов с имущества эмигрантов [807] «Archiv ceský», dil 4, v Praze, 1844, c. 382.
, а несколько позднее была отменена уплата ренты за дома, что было большим облегчением для горожан-бюргеров. Пражские гуситы, в руках которых фактически находилась в то время власть в городе, приступили уже к продаже и к другим формам распределения конфискованных церковных и патрицианских владений. 13 марта 1421 г. в особом решении Пражской общины перечислялись многочисленные виды собственности горожан-эмигрантов и церкви, подлежащие продаже [808] Основные данные гто рассматриваемому вопросу см. в 26, 28 томах издания «Чешский архив», т. 26, стр. 3, 12, 31, 123, 133, 145, 177, 202 и др.
. Говорилось о продаже замков, усадеб, дедин, виноградников, огородов, хмельников и иного имущества. Все это должно было продаваться «…каждому, сколько он может, богатому и бедному, и особенно (тем), которые больше трудились в пролитии крови и божьей борьбе и в защиту общей пользы, тем по наибольшей милости, чтобы продавалось». Конфискации подвергались тогда 160 имений, замков и крепостных деревень в окрестностях Праги, множество виноградников и незастроенных земель в столице [809] J. Macek , Husitské revolucni hnuti, с. 100, русское издание, стр. 106–107.
.
Читать дальше
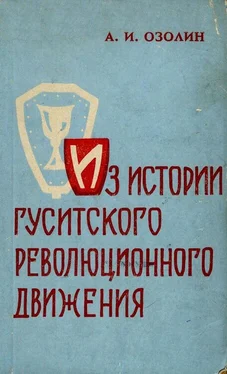


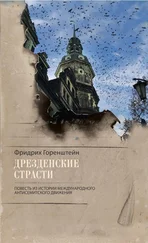
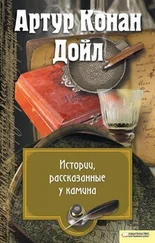
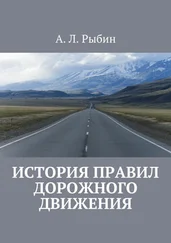
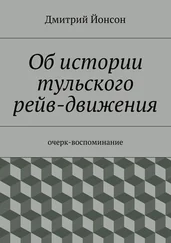

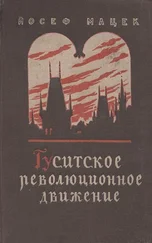
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти [компиляция]](/books/422421/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти (СИ) [компиляция]](/books/422507/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Артур Лорентс - История западной окраины [=Вестсайдская история]](/books/422897/artur-lorents-istoriya-zapadnoj-okrainy-vestsajds-thumb.webp)