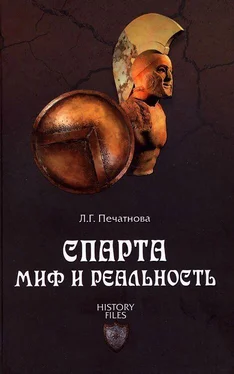Контактам Спарты с внешним миром очень помогали практикуемые в греческом мире ксенические связи, устанавливаемые между знатными семьями из разных государств. Эти наследственные узы гостеприимства отчасти восполняли недостаток в профессиональных дипломатах, которых, конечно, не хватало в таких полисах, как Спарта с се с малым количеством «чиновников». Эфоры из знатных семей, обладающие подобными ксеническими связями, нередко исполняли роль связующего звена между Спартой и другими греческими полисами. Так, эфор 413, а может быть, и 404 г. [113] В рукописной традиции имя эфора 404/3 г. — Εύδιος а в некоторых кодексах — Εύδικος. Больше имя Εύδιος в спартанской истории не встречается. Отсюда возникла версия, что первоначально вместо Εύδιος стояло Ευδικος. Такое чтение предлагают большинство издателей Ксенофонта (например, Отто Келлер) и переводчик «Греческой истории» С.Я. Лурье. Если это так, то мы имеем единственный зафиксированный случай повторного избрания на должность эфора.
, Эндий был наследственным ксеном афинянина Алкивиада. Последний, по словам Фукидида, был назван лаконским именем Алкивиад именно в честь своих спартанских гостеприимцев (Thuc. VIII. 6. 3). Благодаря наследственной дружбе с Эндием Алкивиад получил доступ к спартанскому правительству и не без успеха внушал правящей верхушке свои взгляды на политику (VIII. 12; 17. 2).
В самых важных случаях, когда решались стратегические вопросы внешней политики, эфоры созывали апеллу и в качестве председателей предоставляли иностранным послам возможность выступить перед народом (Xen. Hell. II. 2. 19; V. 2. 11). Судя по сообщениям Ксенофонта, большое значение для принятия решений имели речи послов и реакция на них народного собрания (примеры выступления послов в апелле — в 383 г. (Hell. V. 2. 11–24), в 371 г. (VI. 3. 3–18)). Принятое апеллой решение предварялось следующей формулой: «Эфоры и народное собрание решили» (Xen. Hell. III. 2. 23; IV. 6. 3).
Знаменитый спартанский наварх Лисандр не сильно преувеличивал, когда говорил афинянам, что «одни лишь эфоры полномочны в вопросах мира и войны» (Xen. Hell. II. 2.18).
Если планировался военный поход, то эфоры издавали постановление о призыве в войско. Они же устанавливали возрастные группы, подлежащие призыву (Xen. Lac. pol. 11. 2), и точные размеры воинского контингента. Это разделение обязанностей между народным собранием, которое голосовало за войну, и эфорами, реализующими принятое народом решение, до известной степени отражено Ксенофонтом в его «Греческой истории», хотя без какой-либо прорисовки деталей.
Иногда военная необходимость вынуждала действовать быстро и тайно. В таком случае всю ответственность на себя брала исполнительная власть в лице эфоров. В Спарте подобный случай произошел в 419 г., когда спартанская армия во главе с царем Аписом отправилась в поход против Аргоса, и, как уверяет Фукидид (V. 54. 1), «никто не знал, куда они идут». По-видимому, в данном случае не только не проконсультировались с союзниками, но даже не получили формального согласия апеллы на это военное предприятие. Набор в войско и назначение Агиса командующим, по-видимому, были произведены эфорами сообща с герусией.
Но, если ситуация была не экстраординарной, главнокомандующего назначала апелла. Это следует из используемой иногда Ксенофонтом полной формулы для такого рода решений: «Эфоры объявили набор, а город (ή πόλις) назначил главнокомандующего» (Hell. IV. 2. 9; VI. 4. 17; 5. 10). Под «городом» Ксенофонт, конечно, имел в виду все спартанское гражданство, выражающее свою волю на народных собраниях.
Во время войны коллегия эфоров поддерживала постоянную связь с армейскими и флотскими командирами (Thuc. VIII. II. 3; Xen. Hell. III. 1. 1; 1. 7; 2. 6; 2. 12; 5. 6; V. 1. 1; Plut. Ages. 17) и регулярно посылала им поручения и приказы, вероятно, по древнему способу, с помощью скиталы [114] Плутарх в биографии Лисандра описывает устройство скиталы: «Эфоры, отправляя наварха или стратега, берут две круглые палки совершенно одинаковой длины и толщины с надрезами, которые на обеих палках совершенно одинаковые. Одну они оставляют себе, другую передают тому, кого отправляют. Эти палки и называются скиталами. Когда им нужно сообщить какую-нибудь важную тайну, они вырезают длинную и узкую полосу папируса вроде ремня, наматывают ее на свою скиталу, не оставляя на ней ни одного промежутка, так, чтобы вся поверхность палки кругом была охвачена этой полосой. Затем они пишут на этой полосе то, что нужно, оставляя ее на скитале в том виде, как она есть. Написав, они снимают полосу и без палки отправляют ее стратегу. Так как буквы на ней стоят безо всякой связи, но разбросаны в беспорядке, то прочитать написанное он может, только взяв свою скиталу и натянув на нее вырезанную полосу, расположив ее извивы в прежнем порядке, чтобы, водя глазами вокруг палки и переходя от предыдущего к последующему, иметь перед собой связное сообщение» (Plut. Lys. 19).
(Thuc. I. 131. 1; Xen. Hell. III. 3. 9; V. 2. 34). В действующую армию эфоры часто направляли письма, порицающие или хвалящие поведение как главнокомандующего, так и рядовых воинов. Эти послания в обязательном порядке зачитывались всему войску (Xen. Hell. III. 2.6). Таким образом, эфоры осуществляли постоянный контроль над действующей армией и ее руководителями и имели самые широкие полномочия в принятии решений. Резолюция народного собрания, по-видимому, требовалась только при назначении или, наоборот, отстранении царей и других главнокомандующих от руководства армией или флотом. Правда, в источниках апелла, как правило, не упоминается. Так, согласно Плутарху (Ages. 28), эфоры послали царю Клеомброту приказ выступить в поход против фиванцев, а из сообщения Ксенофонта следует, что этот приказ покоился на решении народного собрания (Hell. VI. 4. 3). Плутарх рассказывает, что эфоры отозвали Агесилая из Малой Азии в Грецию, «приказывая прийти на помощь своим согражданам» (Ages. IS). Но такое решение могло принять только народное собрание, которое ранее послало царя с войском в Азию для борьбы с персами (Xen. Hell. III. 1. 4; 4. 2; IV. 2. 1).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу