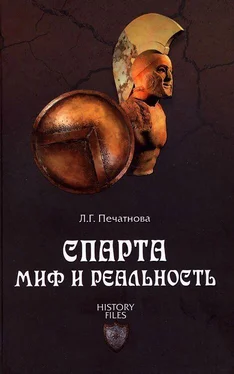Эфорат прекратил свое существование в 227 г. Хотя цари-реформаторы, то с помощью насилия, то используя подкуп, с необычайной легкостью устраняли неугодных им эфоров и назначали на эту должность своих ставленников, но в конце концов даже такой «карманный» эфорат показался Клеомену обузой, и он избавился от него (Plut. Cleom. 10. 1). Эти события — убийство четырех эфоров и последующее уничтожение эфората как института — завершают историю самой уникальной магистратуры, изобретенной спартанцами (Cleom. 8; 10). Так завершилось многовековое противостояние эфоров и царей.
Выборы эфоров. Эфоры-эпонимы
В классическое время эфоры избирались из всех граждан Спарты (Arist. Pol. II. 3. 10. 1265 b 39; II. 6. 15. 1270 b 26) сроком на один год. Могли ли они избираться повторно, точно неизвестно. Хотя в источниках нигде нет указания на запрещение повторного избрания, но таково было общее правило в отношении республиканских магистратур в греческих полисах. Насколько последовательны были в этом отношении спартанцы, трудно сказать. Список эфоров, где вроде бы нет повторяющихся имен, мало что даст. В нем поименно названо всего 76 человек, из которых большинство — это эфоры, чья деятельность падает на время Пелопоннесской войны. От других эпох имен эфоров практически не сохранилось. А если учесть, что за время существования этой должности ее носителями были несколько тысяч спартанских граждан, то становится ясным, насколько бесполезно обращаться к дошедшему до нас списку эфоров. Как нам кажется, если в Спарте и существовал запрет занимать эту должность повторно, то ему, видимо, следовали только в период архаики и ранней классики. При катастрофическом уменьшении числа полноправных граждан подобное предписание было трудновыполнимым, и его, скорее всего, тем или иным способом обходили.
Другое ограничение, вполне традиционное для греческих полисов, касалось возрастного ценза: претендовать на должность эфора можно было только после 30 лет (ер.: Xеn. Lac. pol. 4. 7; Plut. Lye. 25. 1). Скорее всего, выборы были прямыми и происходили непосредственно в народном собрании [106] Так считают почти все исследователи, в частности: Chrimes К.М.Т. Ancient Sparta. А Reexamination of the Evidence. Manchester, 1952. P. 9, 156, 411; Michell Н. Sparta. Cambridge, 1952. P. 125 f.; Forrest W.G. A History of Sparta 950–192 B.C. London, 1968. P. 76 f.; Toynbee A. Some Problems of Greek History. P. III. The Rise and Decline of Sparta. London, 1969. P. 237–241; Oliva P. Sparta and her social Problems. P. 129, n. 4; Levis D.M. Sparta and Persia. Leiden, 1977. P. 40 If.; Rhodes P.J. The Selection of Ephors at Sparta // Historia. Vol. 30. 1981. № 4. P. 498–502.
, по с полной уверенностью это утверждать нельзя. Сомнения возникают из-за слов Аристотеля, что «из двух самых важных должностей народ на одну избирает, а в другой сам принимает участие: геронтов они избирают, а в эфории сам народ имеет часть» (Pol. IV. 7. 5. 1294 b 27–30). Из этих слов Аристотеля Г. Бузольт сделал вывод, что народное собрание не выбирало эфоров [107] Busolt G.; Swoboda П. Griechische Staatskunde. S. 686 и Anm. 4.
. Того же мнения придерживался и комментатор Аристотеля В. Ньюмен [108] Newman W.L. The Politics of Aristotle. Vol. II. Oxford, 1887. P. 336.
. Краткость и двусмысленность древней традиции об избрании эфоров породили в научной литературе целый ряд гипотез. В качестве примера того, как далеко можно зайти в своих предположениях при отсутствии надежной основы в виде традиции, приведем гипотезу американского исследователя Пола Рея о двухуровневом избрании эфоров. По его мнению, на первом этапе выборы происходили по отдельным территориальным округам. Причем на этом предварительном этапе кандидатов подвергали всесторонней тщательной проверке, так называемой докимасии. Второй этап происходил уже в народном собрании. Эфорами становились те из представленных кандидатов, на которых пал жребий. Таким образом, окончательное решение, как думает II. Рей, отдавалось на волю божественного случая [109] Rahe Р.А. The Selection of Ephors at Sparta // Нistoria. Bd. 29.1980. Hf. 4. P. 385–401.
.
Аристотель, не вдаваясь в подробные объяснения, указывает только на то, что способ избрания эфоров был «слишком уж ребяческим» (παιδαριώδης — Pol. II. 6. 16. 1270 b 28). То же слово παιδαριώδης он использует, говоря об избрании геронтов (II. 6. 18. 1271 а 11). Не исключено, что обе коллегии выбирались одним и тем же способом. Вероятно, решите принималось в зависимости от силы крика, и результат выборов приближался к жеребьевке. Недаром Аристотель утверждает, что эфорами могли стать совершенно случайные люди, чуть ли не первые встречные (δντες οι τυχόντες έκ τυχόντων ειοι — Pol. II. 6. 16. 1270 b 29; γίνονται οι τυχόντες — II. 7. 5. 1272 a 30). Из этих слов Аристотеля следует, что коллегия, избираемая из всех граждан без учета их происхождения, экономического положения и реальных заслуг, в своей массе должна была состоять из рядовых спартиатов, среди которых попадались и люди весьма бедные. И действительно, если судить но данным традиции, эфоры, как правило, не были важными фигурами. За пять столетий существования этого института можно назвать всего несколько крупных политиков, в свое время бывших эфорами, — это Хилон, Брасид, Эндий и Анталкид. По сути дела, эфорат был анонимным органом власти. В традиции сохранилось удивительно мало имен эфоров, всего 76, включая эпонимов. Конечно, как отмечает· П. Кэртлидж, «не все эфоры были простыми или бедными людьми; закон средних величин означает, что люди аристократического происхождения или большого богатства также время от времени должны были избираться эфорами, и именно они скорее, чем рядовые спартиаты, способны были сделать что-либо экстраординарное во время своего (единственного) эфората» [110] Cartledge Р. Spartan Justice? Or «the State of the Ephors»? P. 14.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу