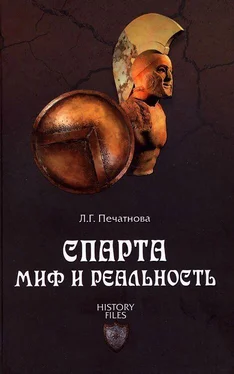Ст. Ходкинсон полагает, что спартанские женщины владели теми же самыми наследственными правами, которые для V в. зафиксированы в Гортинских законах, т. е. правом на половину доли, предназначенной сыну. Таким образом, по его мнению, спартанские женщины оставались наследницами даже при наличии сыновей ( Hodkinson St. Inheritance, Marriage and Demography: Perspectives upon the Success and Decline of Classical Sparta // Classical Sparta: Techniques behind her Success / Ed. A. Powell. London, 1989. P. 82).
Cartledge F.; Spawforth A . Hellenistic and Roman Sparta. Р. 43.
Об исключительной важности идеологического фактора см.: Shimron В . Late Sparta. The Spartan Revolution 243–146 В. C. Buffalo, 1972. P. 18 f.
Васильевский В.Г . Политическая реформа… С. 156.
Cartledge Р.; Spawforth A . Hellenistic and Roman Sparta. P. 46.
Почти во всех кризисных ситуациях спартанцы, как правило, обращались именно в Дельфы. См.: Parker R . Spartan Religion // Classical Sparta: Techniques behind her Success / Ed. A. Powell London, 1989. P. 154 f. Случаи обращения к другим оракулам редки.
Таламы — община периеков на восточном побережье Мессенского залива.
Cartledge Р., Spawforth A . Hellenistic and Roman Sparta. P. 44.
Таково, в частности, мнение С.Я. Лурье. По его словам, «если Большая ретра первоначально и была сформулирована как изречение оракула, то это был древний спартанский оракул Пасифаи в Таламах» ( Лурье С.Я . История Греции. СПб., 1993. С. 226, прим. 3).
По свидетельству Плутарха, Ликург разделил всю землю на тридцать тысяч равных клеров для периеков и девять тысяч — для спартанских семей (Lyc. 8). Эти цифры ровно в два раза больше, чем предлагал Агис. Такое буквальное совпадение, конечно, вызывало и вызывает сильные сомнения в аутентичности данных Плутарха. Уже Дж. Грот, у которого в XIX в. было немало последователей, особенно в Германии, пытался доказать, что предание о равном распределении земли было измышлением, родившимся не ранее III в. в среде сторонников реформ Агиса и Клеомена ( Grote G. History of Greece. 2nd ed. Bd. II. New York, 1859. P. 399 f.). Эта точка зрения не раз повторялась в англо-американской историографии XX в. ( Michell Н . Sparta. Cambridge, 1952. Р. 43; Jones А.Н.М. Sparta. Oxford, 1967. P. 42 f.). Так, no мнению П. Кэртлиджа, сохраненное Плутархом предание о ликурговом переделе земли представляет собой не более чем обратную проекцию аграрных реформ Агиса и Клеомена ( Cartledge Р . Sparta and Lakonia. A Regional History 1300 — 362 В. C. London, 1979. P. 169).
Несмотря на старания ученых, мы так и не имеем точного ответа на вопрос, что собой представляла та «гражданская земля», о которой говорит Полибий. В самом общем приближении можно только сказать, что под гражданской землей, по-видимому, надо понимать землю, полностью контролируемую государством. В качестве таковой она в любую минуту могла быть конфискована для нового передела. К сожалению, источников, хоть как-то проливающих свет на земельный вопрос в Спарте, очень мало, и даже те, что имеются, не поддаются однозначному толкованию.
Oliva Р . Sparta and her social Problems. P. 222, n. 3.
Земли периеков, особенно ближе всего расположенные к Спарте, стали, скорее всего, объектом скупки для имущей части спартанцев. Согласно традиции, процесс накопления дополнительной земельной собственности начался уже в V в., ускорился по окончании Пелопонесской войны, а к III в. привел к катастрофическому неравенству в доходах среди спартиатов (Нет. VI. 61. 3; VII. 134. 2; Thuc. I. 6.4; Xen. Lac. pol. 5. 3; 6. 4; Hell. VI. 4.10–11; Arist. Pol. II. 6. 10. 1270 a 18). Легальное инвестирование капиталов в землю путем приобретения нескольких участков и образования из них обширных «латифундий» позволяло богатым спартиатам поддерживать свою жизнь на очень высоком уровне.
Об экономическом и социальном равенстве граждан как главной цели реформ Агиса и Клеомена см.: Fuks A. Agis, Cleomenes, and Equality // CIPh. Vol. 57. 1962. №. 3. P. 161–166.
Она еще существовала во времена Аристотеля (Pol. IV. 7. 5. 1294 b 23–25). Это подтверждает и Плутарх: он сообщает, что эфор 331/330 г. Этеокл отказался дать в заложники македонскому полководцу Антипатру пятьдесят спартанских мальчиков, боясь «оставить их без принятого у спартанцев с прадедовских времен образования: ведь тогда они не смогут стать гражданами» (Моr. 235 b).
Основываясь на данных Филарха, Д. Лотце приходит к выводу, что, по крайней мере в III в., богатые спартиаты широко использовали мофаков в качестве окружения для своих собственных сыновей ( Lotze D . Μόθακες. S. 430 f.).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу