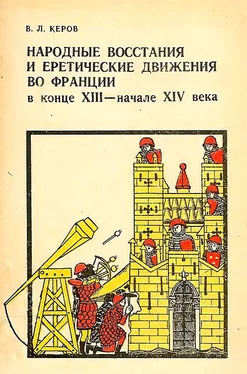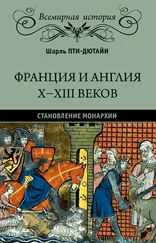Останутся лишь «братья», «коих называют духовными (т. е. спиритуалами. — В. К .) и кои соблюдают во всей чистоте устав св. Франциска, и братья, их приверженцы из третьего ордена (т. е. бегины. — В. К .)» (24, р. 146).
Далее следовало, что во время войн с Антихристом бог так спрячет «избранных духовных людей», что Антихрист со своими слугами не сможет их найти. После гибели Антихриста «духовные люди» обратят всех в «веру Христову» (24, р. 150) и будет установлена духовная церковь, которая станет смиренной и добросердечной, это будет в седьмой и последний период существования церкви, он начнется со смерти Антихриста» (24, р. 146). После этого на земле воцарится совершенное общество: «Весь мир будет благим и добросердечным… не будет ни злобы, ни прегрешений, за исключением, быть может, небольших грехов у некоторых людей» (24, р. 150). Это общество будет существовать в течение 100 лет. Однако затем «любовь уменьшится и понемногу начнет распространяться зло и достигнет такой меры, что Христос вынужден будет прийти вновь, дабы устроить надо всеми общий суд» (24, р. 152).
Неприятие бегинами католической церкви тесно связано с их учением о будущих судьбах мира, неотделимо от их планов социального переустройства общества. «Все имущество, — утверждали бегины, — будет находиться в общем пользовании, никто не обидит своего ближнего и не введет его во грех, ибо великая любовь будет царить меж людьми и будет отныне только одна овчарня и только один пастырь» ( Et omnia ernnt communia quoad usum et non erit aliquis qui offendat alium vel sollicitet ad peccatum, quia maximus amor erit inter eos et erit tune unum ovile et unus pastor ) (24, p. 150–152).
В приведенном отрывке нашли свое дальнейшее развитие высказанные бегинами идеи о жизни в бедности, основанные, как они утверждали, на принципах первоначального христианства.
В вопросе о жизни в бедности, как мы убедимся при изучении концепций Оливи, бегины заняли более радикальную позицию, чем сам теоретик, которого они считали своим учителем и на которого ссылались.
Глубокое влияние оказали бегины на такого известного в описываемую эпоху политического деятеля, а также философа, естествоиспытателя и медика, как Арнольд из Виллановы (141).
Бегины, естественно, испытывали влияние других ересей, ранее появившихся на Юге Франции и еще сохранившихся на рубеже XIII–XIV вв., в первую очередь катаров и вальденсов.
Г. Лей, рассматривая идейные истоки воззрений бегинов, справедливо считает, что их идея о борьбе с папой-антихристом за установление нового, справедливого мира свидетельствует о сочетании во взглядах еретиков Южной Франции учения Оливи с учением катаров. В изображении картины борьбы «защитников Добра против приспешников Зла», пишет он, «преобладают старые представления катаров, глубоко пустившие корни на французском Юге» (155, с. 403–404).
При анализе идеологии вальденсов и бегинов мы видим определенное сходство их взглядов по вопросу о жизни и бедности.
Можно отметить сходство концепций бегинов с воззрениями вальденсов и по другим вопросам, а также со взглядами катаров (351, р. 233–252).
Обнаруживается также определенное сходство между программой бегинов и программой участников восстания Дольчино, в которой, как подчеркивает А. Н. Чистозвонов, «абстрактный средневековой хилиазм уступал место требованиям социального равенства вплоть до «уравнения имущества (229, с. 15).
Напомним, однако, ранее высказанную мысль о том, что не всегда можно отделить идейное взаимовлияние ересей от воздействия на них идентичных социально-экономических и политических факторов, например, вследствие общности социального состава еретических групп. Напомним также о широком использовании и катарами, и вальденсами, и бегинами евангельских аллегорий, идей первоначального христианства, в особенности образов Апокалипсиса. Евангельские образы являлись источником для многих еретических концепций исследуемой эпохи. Необходимо учитывать и роль в появлении ересей народных верований, весьма близких к идеям первоначального христианства.
Следует также иметь в виду возможность не только идейных, но и непосредственных, практических связей между членами различных еретических групп и сект.
Радикализация идейной платформы бегинов во втором десятилетии XIV в. была связана — хотя и косвенным образом— с обострением в это время социальной и политической обстановки во Франции и прежде всего на Юге. От призывов к сдерживанию роста богатства, от протеста против злоупотреблений им бегины перешли к прямому призыву к общности имущества. Их тезис о благом мире можно истолковать и как призыв к гражданскому равенству членов будущего общества. Такие планы переустройства общества отвечали в большей степени устремлениям трудящихся слоев, чем взглядам зажиточных слоев города и деревни. Именно беднякам было свойственно желание соединить идею равенства людей с идеей равенства имуществ.
Читать дальше