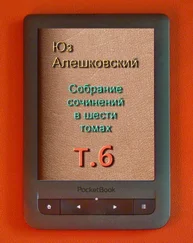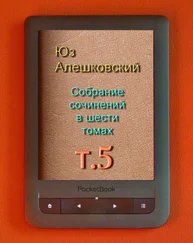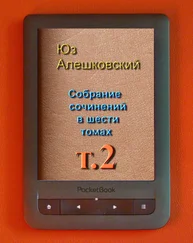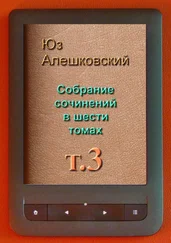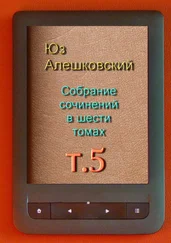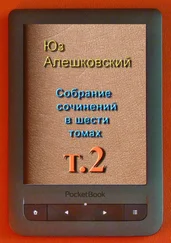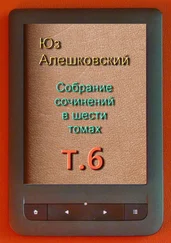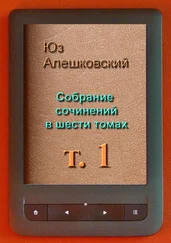Гордость Энния была в том, чтобы быть вторым Гомером, в котором живет душа первого; гордость нового поэта в том, чтобы быть самим собой. Лишь потом, когда напряженность культурного перелома минует, пойдут в ход такие комплиментарные выражения, как «второй Алкей», «второй Каллимах» и пр. (Гораций, «Послания», II, 2, 100), которые сложатся в конце концов в целую систему «синкрисиса» греческих и латинских классиков всех жанров (Квинтилиан, X). Покамест же справедливо было отмечено 18 18 См.: Ross D. О. Backgrounds to Augustan poetry: Gallus, elegy and Rome. Cambridge, 1975. P. 6.
, что при всем пиетете римских поэтов I века до н. э. перед Каллимахом конкретных реминисценций из Каллимаха в их стихах мы находим исчезающе мало – именно потому, что у Каллимаха они учились не приемам, а литературной позиции.
В обществе положение поэта теперь означало положение человека, обладающего досугом, т. е. либо политика в промежутке между делами или в отставке после дел; либо имущего человека, сознательно уклоняющегося от общественной деятельности; либо молодого человека, по возрасту и социальному положению еще не приступившего к ней. Первая из этих ситуаций была предметом раздумий Цицерона, когда он набрасывал картину otium cum dignitate в речи «За Сестия» (98 и др.) – для стихотворства на таком досуге Цицерон находил место на практике, но не в теории. Вторая была впервые продемонстрирована Луцилием: его род принадлежал к сенаторскому сословию, ему была открыта обычная политическая карьера 19 19 Ученым XIX века всадническое положение Луцилия казалось само собой разумеющимся; что за ним стоял сознательный жизненный выбор, напоминает: Williams G. Tradition and originality… P. 449–452.
, но он предпочел остаться всадником, как поколение спустя Аттик и еще поколение спустя Овидий. Третья ситуация была представлена Катуллом: родом из Вероны, еще не имевший римского гражданства, он (хоть, может быть, с неохотой) пролагал собой дорогу в правящее сословие для своих предполагаемых потомков, состоя в «свите» (cohors) таких заметных общественных фигур, как Гай Меммий и Лициний Кальв. Состоятельность была непременной предпосылкою всюду: бранясь, Катулл попрекает Фурия именно фантастической нищетой (№ 23 и № 26; впрочем, такую же маску нищеты он иронически надевает и на себя в № 13). Это – противоположность той фигуре стихотворца-драмодела, зарабатывающего пером, которую мы знаем по предыдущему периоду; теперь даже если поэт-всадник Лаберий развлекается, сочиняя мимы, то выйти на сцену, признав тем свою причастность к коллегии «писцов и лицедеев» (как заставил его выйти Юлий Цезарь. – Макробий, II, 7), для него – позор.
Социальная ячейка, предпочитаемая поэзией нового типа, – дружеский кружок: negotium сводил людей в более широкие социальные объединения, otium сводит в более узкие. Основа таких кружков была унаследована досужим времяпрепровождением от делового: издавна каждый сенаторский дом обрастал клиентами, сплетался политическими «дружбами» с другими домами, входил в переменчивую систему связей, наверху которой стояли principes, optimates; вот такие дома (Сципиона Эмилиана, потом Лутация Катула) и стали первыми дружескими кружками – питомниками поэзии. Конечно, при этом происходило переосмысление всех взаимоотношений, социальное неравенство покровителя и клиента стушевывалось аффектацией духовной общности и эмоциональной близости. Эмоциональный тон стихов Катулла к Кальву такой приятельский, что трудно вспомнить, что для окружающих они были клиентом и патроном; и даже в обращениях Лукреция к Меммию нимало не слышится той униженности, какая была в упоминаниях Теренция о его покровителях. Это было одним из достижений нового этикета urbanitatis. (Такое переосмысление традиционной политической дружбы на новый эмоциональный лад происходило и ретроспективно: вошедший в предания образ «дружеского кружка» Сципиона Эмилиана больше соответствует картине, созданной воображением Цицерона, чем исторической действительности.) Культ дружбы нашел удобное выражение в обычае посвящений: посвящением-обращением сопровождалось почти каждое сочинение в прозе и в стихах (кроме лишь речей и исторических сочинений, которые по-прежнему считались достоянием не «досуга», а «дела», обращенным ко всему народу), и в характере их видна широкая гамма оттенков, от официальных «дружб» Цицерона до излияний любви и вражды у Катулла. За чувствами дружбы действительно следуют чувства любви: уже у Катулла образ поэта-влюбленного оттесняет, а у элегиков следующего периода вытесняет образ поэта приятельского досужества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу