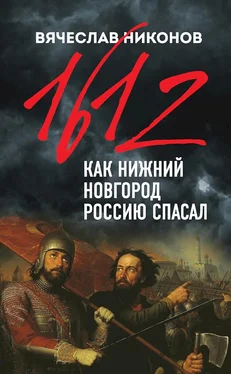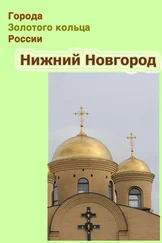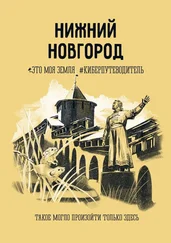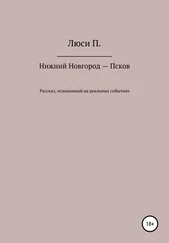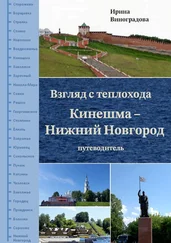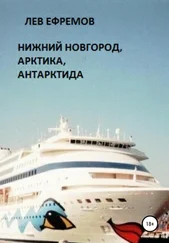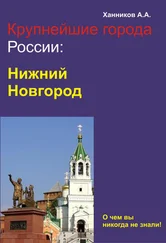Костомаров, который лидеров Нижегородского ополчения явно недолюбливал, объяснял долгое ярославское стояние тем, что «Пожарский не имел таких качеств, которые бы внушали к нему всеобщее повиновение. Его мало слушали: в ярославском ополчении была безладица, происходили даже драки. Сам князь Пожарский сознавался в своей неспособности».
Но следует подчеркнуть, что у Нижегородского ополчения были более чем веские причины не спешить в Москву.
Переворот в таборах в пользу Лжедмитрия III смешал все планы. Пожарский не мог выступить к столице, пока там распоряжались сторонники самозванца, которые считали всех, не признававших «царя Дмитрия», государевыми изменниками. В этих условиях Второму ополчению при приближении к Москве предстояла война с Первым. Пожарский сам в июне напишет, что «из Ярославля хотели со всеми людьми идти под Москву», да помешала присяга подмосковных воевод псковскому самозванцу. Свою миссию Минин и Пожарский видели даже не в освобождении столицы, а в очищении земли, причем не только от поляков, а от всех врагов порядка.
Кроме того, невозможно было идти на юг, когда враги контролировали север. Объявившие войну ополчению казаки заняли Углич и Пошехонье, осуществляли рейды по северным уездам, шведы стояли в Новгороде и Тихвине. Нельзя было оставлять в тылу этих противников. Платонов справедливо оправдывал Минина и Пожарского тем, что «ведь нужно было еще устроить и обеспечить войско, достигнуть нейтралитета со стороны шведов, которые могли угрожать с тылу, и очистить северный край от казачьих шаек, с которыми пришлось много сражаться».
А Валишевский замечал, что, вполне возможно, Пожарский «сомневался в своих силах, чтобы одновременно сражаться с поляками, казаками и шведами… Пожарскому приходилось хлопотать одновременно и о пополнении своих сил и о разделении сил противников. Но он не торопился и потому, что в этой стране никогда не было обычая спешить… Волею судеб он всегда выигрывал драгоценное время, когда казалось, что он его тратит».
Да и под Москвой не происходило в это время ничего такого, что требовало бы экстренного военного выступления. Польский гарнизон опять голодал, что само по себе приближало победу.
Ходкевич с небольшим отрядом обосновался поближе к Смоленской дороге — в селе Федоровском, недалеко от Волоколамска. Сколько бы продовольствия ни отбирали у людей фуражиры, им редко удавалось доставить его в Москву. В начале марта из Федоровского был отправлен большой санный обоз с продовольствием под охраной трехсот солдат и обозной прислуги. Но он едва ли не сразу был разграблен партизанами-шишами, а остатки отряда ни с чем вернулись в Федоровское. Заменить польских солдат, желавших оставить тяжелую службу в Кремле, было некем.
Пожарский предпочел не дислоцировать ополчение внутри городских стен, чтобы не разлагать воинство соблазнами городской жизни и не оказаться в тягость для ярославцев. Перед стенами земляного города были устроены таборы — по казачьему образцу. Затем на этом месте долгое время была улица Таборская. Сейчас это район площади Октябрьской, около моста через Волгу.
Именно в Ярославле дело организации ополчения было поставлено основательно и без спешки, которая отличала деяния Первого ополчения. Прежде всего, продолжилось формирование нового представительного органа власти — «Совета всея земли».
Как подчеркивал Платонов, «князь с „товарищами“ управлял не только ополчением, но и всей землей, как это было и в Первом ополчении. Пожарский принимал челобитные, давал тарханные и жалованные грамоты монастырям, делал постройки в городах, давал льготы разоренным, назначал денежные сборы на ратное дело, но все это он делал „по совету всей земли“, „по указу всей земли“. Всякий, кто сколько-нибудь знаком с древними актами, поймет, что термином „земля“ наши предки обозначали не что иное, как земский собор. Стало быть, соборное начало уважалось в войске Пожарского, чего не было в рати Ляпунова и Заруцкого, где воеводы действовали одним своим именем».
Таким образом, в Ярославле «Совет всея земли» стал, по сути, играть роль постоянно действующего Земского собора — учреждения с законосовещательными функциями. Указание на существование Собора около Пожарского мы видим в грамоте от 7 апреля: он просит города прислать ему выборных «для царского обирания» и для совета о дипломатических и государственных делах.
«Бояре и окольничие, и Дмитрий Пожарский, и стольники, и дворяне большие, и стряпчие, и жильцы, и головы, и дворяне, и дети боярские всех городов, и Казанского государства князья, мурзы и татары, и разных городов стрельцы, пушкари и всякие служилые и жилецкие люди челом бьют. По умножению грехов всего православного христианства, Бог навел неутолимый гнев на землю нашу: в первых прекратил благородный корень царского поколения».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу