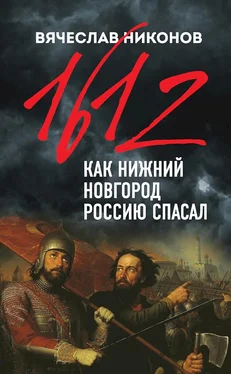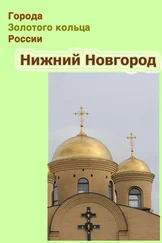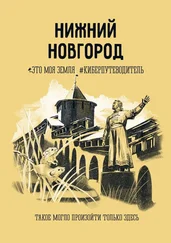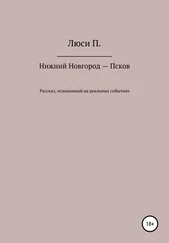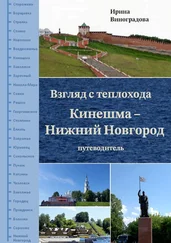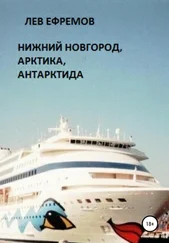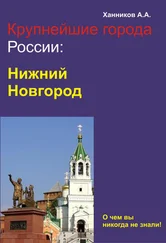Переворот в Москве получил поддержку в южных и северских городах, прежде примыкавших к лагерям Болотникова и Лжедмитрия II. На востоке власть нового самозванца признали Арзамас и Алатырь. Зато Нижний Новгород, Казань, Владимир, Ярославль, Кострома, Рязань, Тверь восприняли избрание Лжедмитрия III как незаконный акт. Крест самозванцу отказались целовать и многие города, прежде входившие в состав калужского лагеря. По утверждению троицких монахов, присяга сорвалась даже в Калуге, Туле и Серпухове.
Минин и Пожарский, естественно, тоже не собирались признавать очередного самозванца и после получения вестей из-под Москвы открыто заявили о самостоятельности своих действий. В грамотах воевод Нижегородского ополчения «русские воры» из казачьих отрядов Первого ополчения впервые были поставлены в один ряд с интервентами. Это стало одним из принципиальных решений, обозначивших окончательное рождение нового, Второго ополчения, которое рвало связь с Первым.
Из Решмы, куда пришла неприятная весть, путь ополчения пролегал в Кинешму, где была сделана более продолжительная остановка. Жители городка встретили нижегородцев приветливо и предоставили им «подмогу»: пополнили казну ополчения и добавили в него своих людей. Стало известно, что на сторону Нижегородского ополчения перешла администрация Переславля-Залесского во главе с воеводой Андреем Федоровичем Палицыным.
Из Кинешмы Пожарский выступил в сторону Костромы. Когда его отряды достигли Плеса, к князю явились посадские люди — костромичи — и предупредили, что их воевода Иван Петрович Шереметев решил не пускать нижегородцев в город. Похоже, он был одним из немногих, на кого подействовали увещевания Семибоярщины.
Пожарский и Минин предпочли не форсировать события. Они двинули свои отряды на Кострому и встали перед городом на посаде. Местные дворяне заперлись в крепости с Шереметевым. Пожарский не спешил штурмовать цитадель, надеясь, что посад скажет свое веское слово. Так оно и случилось. В Костроме начались волнения, горожане осадили Шереметева на воеводском дворе.
Многие костромичи и ополченцы жаждали крови Шереметева. Но Пожарский и Минин его спасли, взяв под стражу, а затем, сняв с воеводства, позволили уйти в Ярославль. Воеводой в Костроме Пожарский поставил князя Романа Ивановича Гагарина, дав ему в помощь дьяка Андрея Романовича Подлесова. С Костромы были собраны деньги по «уставу» Минина и проведен призыв на службу костромских дворян — «выборный человек служивым людем, костромичам, с ратными людьми идти повеле».
В Кострому также прибыли челобитчики из Суздаля, которые просили Пожарского послать ратных людей для защиты от «воровских казаков» Андрея и Ивана Просовецких. Теперь воевода князь Роман Петрович Лопата-Пожарский с отрядом нижегородских и балахонских стрельцов направился в Суздаль. Несмотря на свое численное превосходство, казаки решили не вступать в бой и ушли под Москву. Лопата-Пожарский остался воеводой в Суздале. «Этим назначением воевод Пожарский снова показывал, что чувствует себя в положении правителя государства; таковым, очевидно, считали его костромичи и суздальцы, просившие его назначить им воевод», — подмечал Любомиров.
Получив в Костроме «на подмогу многую казну», ополчение направилось в Ярославль и пришло туда еще «по зимнему пути», так и не дождавшись ратников из Казани.
Ярославль являлся одним из крупнейших торговых и ремесленных центров страны, но, в отличие от Нижнего, не был преимущественно посадским городом. Тут жило многочисленное дворянство. Подмосковное правительство пыталось превратить Ярославль в свою опорную базу еще до того, как нижегородцы выступили со своим почином.
Но теперь Ярославль, особенно после присяги Трубецкого и Заруцкого третьему самозванцу, твердо решил примкнуть к Пожарскому. Нижегородские полки вступили в город в самом конце марта под звон колоколов. «С великою честию» приняли ярославцы своих избавителей и поднесли Пожарскому и Минину «дары многия», от которых те, однако, отказались.
Полагаю, тогда никто не мог предвидеть, что ярославское стояние Минина и Пожарского продлится целых четыре месяца.
Длительное стояние в Ярославле многие современники и поколения историков ставили в вину Минину и Пожарскому. Так, Авраамий Палицын, посетивший руководителей Второго ополчения в конце июня — начале июля 1612 года, оставил в своем «Сказании» весьма нелицеприятный отзыв о том, что в эти месяцы происходило в Ярославле. Прохлаждались, мол, вдали от столицы, тогда как страна стонала под гнетом иноземных захватчиков.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу