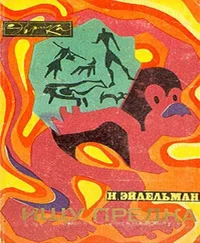Их мечта — «быть может за хребтом Кавказа…» — даже не осуществившись, была небесплодной. Без нее не явились бы великие произведения, великие характеры.

Часть I
Грибоедов
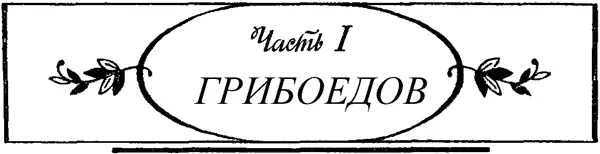
Мы молоды и верим в рай, —
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брежжущим
виденьем.
Грибоедов
 Два часа на перелет из Москвы в Тбилиси, осмелимся заметить, — слишком мало. Разумеется, ничто не мешает выбрать сорокачасовой железнодорожный маршрут или еще более неторопливый способ передвижения, но это уж будет замедление сознательное, «искусственное».
Два часа на перелет из Москвы в Тбилиси, осмелимся заметить, — слишком мало. Разумеется, ничто не мешает выбрать сорокачасовой железнодорожный маршрут или еще более неторопливый способ передвижения, но это уж будет замедление сознательное, «искусственное».
При всем при этом выигрыш скорости — проигрыш радости; точнее, происходит утрата некоторых важных радостей, хорошо известных предкам.
Во-первых, тише едешь — дольше будешь , т. е. удлиняешь срок пребывания в «конечном пункте»: если на дорогу туда и обратно уходит суток восемь, то уж волей-неволей придется задержаться в Тбилиси или другом дальнем городе на месяцы (исключения лишь подтверждают правило). Придется настолько привыкнуть к новому месту, что после уж —
И соответственно без достаточно долгой разлуки, без медленного возвращения в «исходную точку» никогда не произнести:
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез…
Вторая утраченная радость — уникальность: прошли те, сравнительно недавние времена, когда рассказы о Кавказе, Средней Азии, Сибири звучали как ныне — об Огненной Земле или океанских впадинах. «Быть может за хребтом Кавказа…» — мечтал Лермонтов. Строки были рассчитаны в основном на тех, кто никогда не был и не будет за хребтом Кавказа, ибо это — бог знает где! Нечто подобное применительно к сегодняшнему дню вызвало бы улыбку: два часа лету! Труднее отыскать того, кто за хребтом не бывал…
Дневники, путевые записки старинных путешественников ценятся высоко, их изучают, постоянно публикуют в научных и литературных сборниках. В наши же дни, кажется, наступает пора издать рассказы ученых и писателей о местах, где они не бывали . М. А. Цявловский размышлял в свое время над географией пушкинской мечты — Африка, Испания, Америка. Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир-Мухтара» мастерски представил Персию, Тегеран, которые никогда не видел, и блистательно описал Тифлис, впервые посетив Грузию уже после выхода книги.
Живых свидетелей сравнительно недавнего прошлого, естественно, все меньше, зато все больше семейных преданий, рассказов о всех временах.
Чабуа Амирэджиби несколькими штрихами нарисовал портрет одной почтенной дамы «из бывших», отнюдь не унывавшей в 1920–1930-х годах от уплотнения из 14 дореволюционных комнат в одну и только удивлявшейся (на грузинском и французском языках):
«Как это большевики, отменив классы, проглядели такой опасный класс, как соседи по квартире?..»
Ия Мухранели вспомнила деда, участвовавшего в англо-бурской войне и затем отбывавшего английский плен на острове Святой Елены (реванш Наполеона); оттуда дед переписывался с Черчиллем, позже возвратился в Петербург и тут же был выслан в Грузию за своевольное поведение на скачках…
Михаил Лохвицкий охотно развернул свой «интернационал»: десятки предков и близких родственников по черкесской, русской, грузинской, армянской, немецкой, польской, итальянской линии…
Итальянское начало было представлено прабабкой Луизой Вазоли, примадонной итальянской оперы в Тифлисе 1850-х годов, того самого театра, где, согласно впечатлению очевидца, «костюм европейских дам рядом с туземным, прелестным, живописным нарядом», где «спокойный взор персидского принца Бехмен-мирзы равнодушно скользил по женским лицам, по временам был прикован к сцене и как бы вслушивался в незнакомые и дивные напевы.
Сверкающие же глаза Хаджи-Мурата беспрерывно перебегали с одного женского лица на другое и при forte-fortissimo быстро обращались к сцене, но без выражения особенного впечатления; казалось, его занимала какая-то особая, тревожная мысль» [Кавказ, 1852, № 12].
Читать дальше
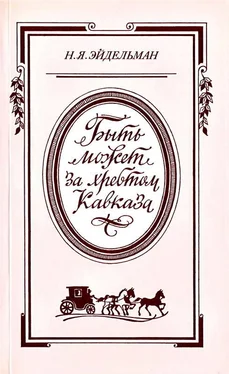

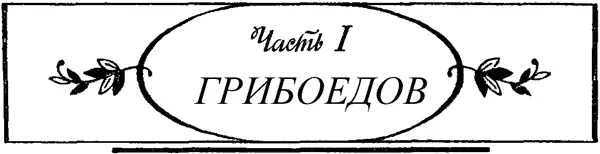
 Два часа на перелет из Москвы в Тбилиси, осмелимся заметить, — слишком мало. Разумеется, ничто не мешает выбрать сорокачасовой железнодорожный маршрут или еще более неторопливый способ передвижения, но это уж будет замедление сознательное, «искусственное».
Два часа на перелет из Москвы в Тбилиси, осмелимся заметить, — слишком мало. Разумеется, ничто не мешает выбрать сорокачасовой железнодорожный маршрут или еще более неторопливый способ передвижения, но это уж будет замедление сознательное, «искусственное».