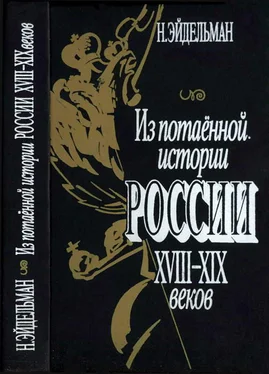Если первые отрывки воспоминаний были уничтожены великой княгиней из страха (сохранился только один ранний набросок), то запискам императрицы уже ничто не угрожало. Наиболее интенсивно Екатерина занималась своими мемуарами около 1771 г., а затем уже в последние несколько лет жизни. Узнав, что книготорговец Дидо упомянул об ее записках, Екатерина II 21 июня 1790 г. написала Гриму: «Я не знаю, что слышал Дидо о моих мемуарах, но в чем я уверена, — что они еще не написаны, и если это грех, — я должна извиниться» [65] Сборник Русского Исторического общества. СПб., 1878. Т. XXIII. С. 484.
. Исследователями выявлено семь редакций воспоминаний императрицы — иногда дополняющих, порой противоречащих друг другу. Самой полной редакцией оказалась четвертая (по нумерации А. Н. Пыпина и Я. Л. Барскова). Именно эта редакция, составлявшаяся в 1790-х годах [66] Сочинения императрицы Екатерины II. На основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. СПб., 1907. Т. XII. С. 197–433.
, и попала в свое время в руки А. И. Герцена. Екатерина II не успела окончательно отредактировать свои воспоминания, не успела смягчить «опасные места». Это обстоятельство, а также живой ум и несомненное литературное мастерство автора привели к созданию интересного источника по истории XVIII в. «Записки», несомненно, самая ценная часть обширного литературного наследства Екатерины II. Вызванная особенностью жанра необычная искренность воспоминаний отнюдь не противоречила нескрываемому желанию императрицы оправдаться перед потомством. Одна из редакций воспоминаний посвящена интимному другу Екатерины баронессе Брюс [67] Исследовательница мемуаров Екатерины О. Корнилович полагала, что это посвящение носило фиктивный характер.
, другая — князю Черкасову. Наконец, наиболее полная редакция хранилась в пакете с надписью: «Его императорскому высочеству великому князю Павлу Петровичу, моему любезнейшему сыну» [68] Сочинения императрицы Екатерины II. Т. XII. С. 708.
.
Итак, «Записки» Екатерины II не были исповедью философа «наедине с собою и только для себя». В предисловии к герценовскому изданию «Записок» анонимный автор [69] Издатели академического собрания «Сочинений императрицы Екатерины II» ошибочно считали автором этого предисловия А. И. Герцена, в то время как оно принадлежало, по-видимому, перу П. И. Бартенева (см. об этом ниже).
справедливо отмечал: «Цель их (записок) очевидна; это — потребность […] оправдаться в глазах сына и потомства, которое должно оценить и побуждения и искренность этих признаний. Но невозможность полного оправдания как будто выражается в том самом, что мемуары не доведены до конца, ни даже до главной катастрофы» (подразумевается свержение Петра III).
Екатерине было в чем оправдываться, что обосновывать, от чего защищаться. Объявляя о своих «законных правах» на престол, она хорошо понимала их относительность (неслучайно сначала Екатерина собиралась вступить на престол как регентша малолетнего Павла, но затем отказалась от этого намерения). Было всесилие обладательницы громадной империи — и страх перед новыми переворотами. Была победа над Пугачевым — и призрак Петра III, воскрешенный самозванцем. Была ненависть к французской революции 1789 г., свергнувшей «законного монарха», — и собственная «дворцовая революция» 1762 г., свергнувшая другого «законного монарха» [70] В качестве примечания к «Запискам» Екатерины II А. И. Герцен использовал депешу французского посла Беранже о воцарении Екатерины II: «Что за зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I (Петр III) был свергнут с престола и потом убит; с другой — как внук царя Иоанна (Иван Антонович) увязает в оковах, в то время как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование!» (См.: А. И. Герцен. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1965. Т. XTV. С. 372–373).
. Как известно, политика Екатерины II в главном вопросе русской жизни — крестьянском — была достаточно определенной: незыблемое и все расширяющееся крепостническое угнетение миллионов людей. Однако политика «просвещенного абсолютизма» была известной маскировкой непривлекательной реальности, завесой лжи. На эту особенность екатерининского царствования обратил внимание А. С. Пушкин: «Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь…» [71] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М., 1937–1949. Т. II. С. 16.
. Объяснить, оправдать, растворить темную тайную историю в блеске явной, соединить самовластие с просвещением — для всего этого Екатерина предпринимала многое: говорила, писала и печатала. Для этого создавались и «Записки».
Читать дальше