Наука и жизнь. 1981. № 9 (под названием «Осьмнадцатый, пушкинский»).

 В середине сентября 1858 г. в Лондоне вышел и примерно через неделю проник в Россию сдвоенный 23–24-й номер герценовского «Колокола». На последней странице газеты было напечатано объявление: «Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке: „Memoires de l’imperatrice Catherine II, ecrits par elle — meme (1744–1758)“
В середине сентября 1858 г. в Лондоне вышел и примерно через неделю проник в Россию сдвоенный 23–24-й номер герценовского «Колокола». На последней странице газеты было напечатано объявление: «Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке: „Memoires de l’imperatrice Catherine II, ecrits par elle — meme (1744–1758)“ [61] «Мемуары Екатерины II, написанные ею самой».
. Записки эти, давно известные в России по слухам и хранившиеся под спудом, печатаются в первый раз. Мы взяли меры, чтобы они тотчас были переведены на русский язык. Нужно ли говорить о важности, о необычайном интересе „Записок“ той женщины, которая больше тридцати лет держала в своей руке судьбы России и занимала собою весь мир, от Фридриха II и энциклопедистов до крымских ханов и кочующих киргизов. В „Записках“ описана молодость ее, первые годы замужества…» [62] Колокол. № 23–24. С. 200.
Уже через два месяца, 15 ноября 1858 г., 28-й номер «Колокола» известил читателей о том, что «Записки» вышли на языке подлинника — французском. Затем последовали русское, немецкое, шведское, датское, второе французское, второе немецкое издания. Секретные мемуары императрицы сделались всеобщим достоянием ровно через 100 лет после тех событий, которые в них описываются!
Обнародование «Записок» Екатерины II произвело потрясающее впечатление на российские власти. Оно казалось им более страшным, нежели вскрытие самых отвратительных злоупотреблений чиновников, описание самых ужасающих издевательств над крестьянами: ведь в данном случае говорилось не просто о плохих чиновниках и помещиках — «заряд» был направлен прямо в верховную власть. Прочитав мемуары императрицы, выдающийся французский историк Ж. Мишле писал А. И. Герцену: «Это с вашей стороны — настоящая заслуга и большое мужество. Династии помнят такие вещи больше, чем о какой-либо политической оппозиции» [63] Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем / Под ред. М. К. Лемке. Т. IX. Пг., 1919. С. 397.
.
Царственные особы, случалось, вели дневники, а иногда писали воспоминания, большей частью — малосодержательные и порою представляющие интерес лишь как доказательство ограниченности их авторов (Людовик XVI, Николай II). Впрочем, сохранять откровенные записи представители правящих династий опасались: Мария Федоровна, жена Павла I, завещала своему сыну, Николаю I, сжечь несколько тетрадей с ее заметками. Были уничтожены и дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Кроме дневников, существуют также записи монархов, предназначавшиеся в назидание потомству. Этот род воспоминаний (первый русский образец — «Поучение Владимира Мономаха») всегда содержит интересные сведения, но недостатком его как исторического источника можно считать чрезмерную «заданность» темы в ущерб истине. Таковы «История моего времени» прусского короля Фридриха II и мемуары Наполеона, написанные на острове Святой Елены.
«Записки» Екатерины II в некотором отношении выгодно отличаются от перечисленных выше типов автобиографических документов. Главное отличие — незавершенность, незаконченность, неотделанность этих воспоминаний. На них не успел еще лечь слой лака, усиливающего «блеск» и скрадывающего «неровности». Позднейшим исследователям будет нелегко разобраться в нескольких черновых и переписанных набело тетрадях, отдельных листах и лоскутках бумаги, составляющих личный архив Екатерины II. Лишь постепенно А. Н. Пыпин и Я. Л. Барсков, возглавившие в начале XX в. академическое издание сочинений императрицы, нашли известную систему в этих рукописях. Выяснилось, что Екатерина II писала воспоминания более полувека — по существу, от прибытия своего в Россию (1744) до самой смерти (1796). Первый опыт автобиографии юной великой княгини отличался, по-видимому, характерным для XVIII в. стремлением к самопознанию, самовыражению. Сама Екатерина писала позже: «Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств характера и личного поведения. Чтобы делать это более осязательным, я построю следующий силлогизм: качество и характер будут большой посылкой; поведение — меньшей; счастье или несчастье — заключением. Вот два разительных примера: Екатерина II и Петр III» [64] Записки императрицы Екатерины Второй. Перевод с подлинника, изданного императорской Академией наук. СПб., 1907. С. 203. В дальнейшем ссылки на мемуары Екатерины II будут заимствоваться из этого же издания, как самого полного. К сожалению, перевод с подлинника осуществлен в издании 1907 г. чересчур буквально, без должной литературной обработки текста. В некоторых случаях поэтому автор данной статьи внес в текст перевода незначительные изменения.
. Стремление к самопознанию автора воспоминаний надо учитывать, анализируя их историю, хотя, разумеется, были более серьезные причины, управлявшие пером мемуаристки…
Читать дальше
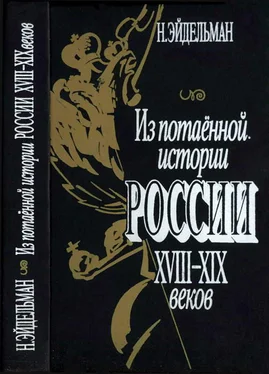

 В середине сентября 1858 г. в Лондоне вышел и примерно через неделю проник в Россию сдвоенный 23–24-й номер герценовского «Колокола». На последней странице газеты было напечатано объявление: «Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке: „Memoires de l’imperatrice Catherine II, ecrits par elle — meme (1744–1758)“
В середине сентября 1858 г. в Лондоне вышел и примерно через неделю проник в Россию сдвоенный 23–24-й номер герценовского «Колокола». На последней странице газеты было напечатано объявление: «Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке: „Memoires de l’imperatrice Catherine II, ecrits par elle — meme (1744–1758)“ 










