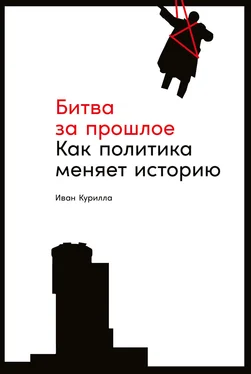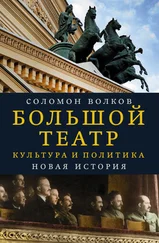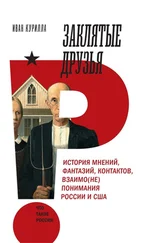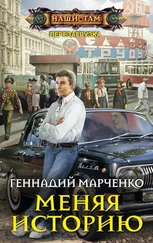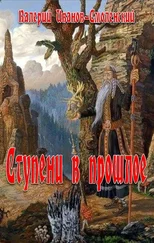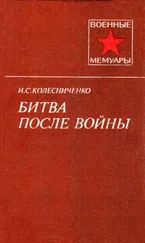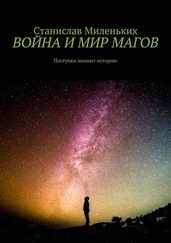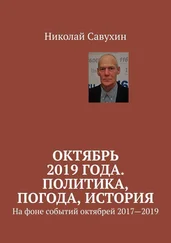История X. Дело Дениса Карагодина, или «Трудное прошлое»
В июне 2016 года СМИ облетела история выпускника Томского университета Дениса Карагодина, который расследовал гибель своего прадеда Степана — жертвы Большого террора в начале 1938 года. Степан Карагодин был расстрелян НКВД после приговора по «делу шпионско-диверсионной группы „харбинцев и высланных из ДВК“» как «резидент японской военной разведки». Денис потребовал от ФСБ расследовать убийство своего прадеда и установить виновных в этом преступлении.

Денис Карагодин поставил вопрос об ответственности государства и конкретных исполнителей террора, причем не политической ответственности, о которой говорили, начиная с XX съезда КПСС, а самой что ни на есть уголовной. В самом деле: убийство невиновного человека, кем бы оно ни было совершено, требует расследования и наказания преступников. Если убийцы выполняли приказ, то наказание должно распространяться на всю цепочку. И если прошло слишком много времени и никого из убийц уже нет в живых, то уголовное расследование должно установить их имена и дать определение их преступным действиям.
У россиян не было ни комиссии по национальному примирению, ни трибунала для палачей. В результате, как показал в своей книге «Кривое горе» Александр Эткинд, последствия ГУЛАГа до сих пор не изжиты российским обществом, они сохраняются в культуре и науке, в отношениях между людьми и людей с государством [194] Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных. — М.: Новое литературное обозрение, 2016.
.
Денис Карагодин предложил свою форму выяснения отношений с прошлым: личное расследование и личный иск по поводу гибели прадеда. Это конкретная судьба, а не сухая статистика. Сейчас на сайте Карагодина выложены десятки архивных документов, указывающих на всех участников «дела» его прадеда — от генсека ВКП(б) до конкретных палачей, нажимавших на курок.
Внучка одного из упомянутых Карагодиным людей, обнаружив эти документы, попросила прощения у потомков репрессированных. Через шесть лет после начала расследования, в марте 2021 года, сын другого сотрудника НКВД, раскрытого на сайте Карагодина как соучастник расстрела, подал на него жалобу в Следственный комитет, обвинив в клевете на отца и в разглашении персональных данных. Общество тоже разделилось по отношению к этой инициативе. Кому-то обнародование документов представляется дорогой к гражданскому конфликту между потомками жертв и палачей. Кому-то — установлением истины и путем к гражданскому миру.
Денис Карагодин выбрал юридический способ обращения к «трудному прошлому» нашей страны. Эти страницы истории СССР отсутствовали в публичном обсуждении вплоть до XX съезда ВКП(б), состоявшегося в 1956 году, когда Хрущев докладом о культе личности Сталина открыл возможность для создания нарратива невинно осужденных.
Потребовалось полтора десятилетия и новые политические «заморозки», чтобы из этого нарратива вырос более жесткий, описывающий весь СССР как преступное государство. В 1973 году Александр Солженицын опубликовал на западе свое «художественное исследование» советской лагерно-тюремной системы 1918–1956 годов «Архипелаг ГУЛАГ», создавшее мощный образ репрессий, ставших основой советского государства. Писатель мог опираться только на собственный опыт и на свидетельства знакомых, что позднее дало повод критикам книги обвинять его в преувеличении количества жертв красного террора. Книга тем не менее создала альтернативный официальному нарратив истории СССР, который и сегодня служит средством политической мобилизации, но даже почитатели Солженицына признают в ней именно художественное, а не документальное исследование.
Документальное исследование советских репрессий стало возможным только в перестройку, когда было основано историко-просветительское общество «Мемориал», занявшееся, в частности, архивной работой по установлению имен жертв репрессий. В 1980-е годы десталинизация происходила в медиа и среди активистов и многим казалась родом пропаганды: журналисты писали о репрессиях, «Мемориал» собирал документы о репрессированных, но в основном сограждане оставались лишь «потребителями» информации, которой к какому-то периоду «наелись» (так нас, во всяком случае, уверяют противники возвращения дискуссии о советском прошлом).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу