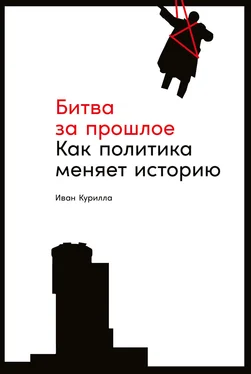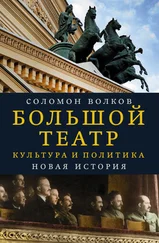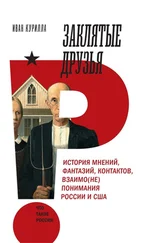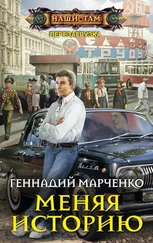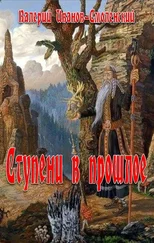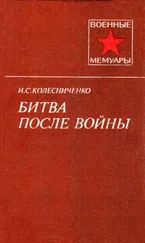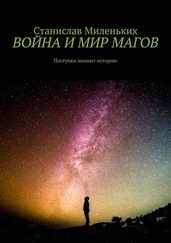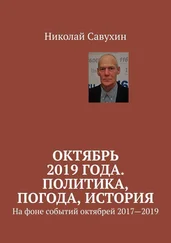Два других варианта реакции на давление меняющегося нарратива заключаются в признании близости режимов СССР и нацистской Германии; различны лишь знаки этой оценки. В одном случае оправдываются действия Германии и Гитлера до нападения на Советский Союз (или по меньшей мере до начала Второй мировой войны). Так, в 2008 году «Военно-исторический журнал» опубликовал статью военного историка полковника Сергея Ковалева, в которой Польша фактически обвинялась в начале Второй мировой войны за отказ принять «справедливые» требования Германии в 1939 году [158] Ковалев С. Н. Вымыслы и фальсификации в оценках роли СССР накануне и с началом Второй мировой войны // Военно-исторический журнал. 2008. № 7.
. После разразившегося скандала материал был удален с сайта журнала, но само его появление показало, как далеко может завести логика спора с «новым нарративом». В апреле 2014 года известный политолог Андраник Мигранян в газете «Известия» попытался обелить «Гитлера до 1939 года», который, по его мнению, был в тот период «собирателем земель» и не заслуживает осуждения, вызванного его более поздней политикой [159] Мигранян А. Наши Передоновы // Известия. 2014. 3 апр.
. И в этом случае широкое возмущение общественности заставило автора объяснять свои слова и частично дезавуировать их.
Другой вариант признания равенства двух тоталитарных режимов исходит от либеральной общественности. Она видит в такой постановке вопроса аргумент в своей борьбе за очищение российского общества от последствий сталинизма, таких как низкий уровень защищенности гражданина от произвола государства, широкие полномочия спецслужб и ограничение прав и свобод.
Здесь мы подошли к важной проблеме. Внутри России спор о Второй мировой войне приобрел особый характер: старый раскол между сталинистами и антисталинистами оказался спроецирован на международную проблематику. Сталинисты выступили союзниками руководителей государства в борьбе против приравнивания Сталина к Гитлеру. Их противники настаивали, что такое приравнивание обоснованно, но предлагали разделить сталинизм и подвиг советского народа в войне.
Верно и обратное: если во внутренней политике антисталинисты стремятся «развести» подвиг народа в войне и сталинский режим, а сталинисты, напротив, утверждают, что без Сталина победа была невозможна, то политики соседних с Россией стран, использующие тезис о двух тоталитаризмах, по сути, солидаризуются с российскими сталинистами. В самом деле, отказываясь видеть в победе Красной армии освобождение от фашизма, описывая Вторую мировую войну как схватку «двух тоталитаризмов», они способствуют отождествлению героизма советского народа с политикой репрессивного режима.
В ответ на «пересмотр истории Второй мировой войны» в некоторых странах Европы в российской пропаганде (и достаточно широко в обществе) проявилась конфронтация. С одной стороны, в ходе празднования Дня Победы в последние годы россияне все чаще говорят о победе над Германией как об исключительно российском прошлом. «Приватизация» победы, ее переформулировка как «победы над Европой» в трудах некоторых активистов российской исторической политики фактически возрождает в зеркальном отражении нацистский миф о «цивилизаторской миссии» Германии, которая якобы несла завоеванным народам Восточной Европы «европейские ценности».
С другой стороны, в таком контексте обострение международной ситуации, на которое пошел Кремль в 2014 году, может объясняться попыткой «остаться Европой» хотя бы в статусе источника европейской головной боли. Вместе с тем именно это обострение ускорило процессы символического объединения европейцев перед «угрозой с Востока». Россия сыграла в ту игру, которую центральноевропейцы приписывали ей на протяжении предыдущих десятилетий. Со своей стороны, российская пропаганда в 2014 году бездумно использовала словарный запас времен Великой Отечественной войны, описывая войну как победу не над нацистской Германией, а над Европой с ее «чуждыми россиянам» ценностями. Современный раскол, таким образом, опрокидывается в прошлое, оценки действий СССР в 1930–1940-е годы и России в 2010-е влияют друг на друга.
Надо понимать, что проблема европейской идентичности и памяти о войне никуда не денется даже в случае изменения внешней и внутренней политики России. Сегодняшний конфликт подпитывает раскол, но не является его причиной. Память о Второй мировой войне (в разных формах) способствовала общности европейской истории. С затуханием этой общности встанет вопрос о том, что еще является общеевропейским «местом памяти».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу