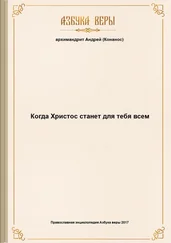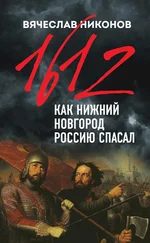В ночь с 30 на 31 октября большевики предъявили Комитету общественной безопасности ультиматум — капитулировать под угрозой артиллерийского расстрела Городской думы Кремля, — и это было моментом перелома. «Измученная непрерывными усилиями, потерявшая надежду на успех первого быстрого удара и недостаточно снабженная для длительной борьбы, кучка защитников Москвы и России чем дальше, тем больше чувствовала себя изолированной и от остальной России, и от других общественных элементов. Слова «юнкер», «офицер», «студент» сделались бранными словами, и геройский порыв людей, носивших эти звания, бледнел перед пассивным отношением или даже явной враждебностью к ним населения, на защиту которого они выступили и жертвовали жизнью» [3190] Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 681.
, — писал Милюков.
И уже становилось очевидным, что войска с фронта не подойдут или, уж точно, не подойдут вовремя. Академик Минц напишет: «Против революционной Москвы были направлены крупные силы — не менее 15 тыс. солдат, главным образом кавалеристов и ударников в сопровождении значительного количества артиллерии. Но ни одна из назначенных войсковых частей не достигла даже дальних подступов к Москве. Верхние «этажи» армейской организации — штабы фронтов и армий — еще ощущали эту нервную, тревожную деятельность Ставки. Но чем ближе к воинским частям и подразделениям, тем все менее настойчивыми становились распоряжения, тем чаще они сменялись уговорами, просьбами, а в самом низу солдатская масса досадливо отмахивалась от них и с энтузиазмом приветствовала Декреты о мире и о земле» [3191] Минц И. И. История Великого Октября. Т. 3. С. 262, 263.
. Зато почти беспрепятственно и в Москве подходили подкрепления Красной гвардии из соседних городов, где власть Советов к тому времени была уже установлена. Отряды численностью от трехсот до тысячи человек прибыли из Подольска, Серпухова, Коврова, Александрова, Кимр, Люберец, Павлово-Посада, Шуи. Вечером 30 октября в Москве появляется первый отряд матросов-балтийцев из Петрограда, через день добавится еще один.
Решающий перевес был достигнут, когда в дело была введена артиллерия.
Бунин записывает в дневник: «Сумасшедший дом в аду. Один час. Орудийные удары — уже штук пять, близко. Снова — в минуту три раза» [3192] Бунин И. А. Окаянные дни. Повести. Рассказы. Воспоминания. М., 2006. С. 46.
. Член Московского ВРК Михаил Федорович Владимирский рассказывал: «Артиллерии на Воробьевых горах был дан приказ перенести огонь на Кремль. Обстрел велся также с Пресни и Лефортова. Легкие орудия били с Красной площади по Никольским воротам. В Боровицкие ворота солдаты бросали бомбы и стреляли из винтовок и пулеметов. На углу Волхонки и Ленивки стояли легкие орудия. Все усилия были направлены на Кремль. Юнкера вначале пытались отстреливаться, но артиллерийский обстрел заставил их смолкнуть» [3193] Владимирский М. Ф. Решающие моменты Октября в Москве // Великая Октябрьская социалистическая революция. Сборник воспоминаний участников революции в Петрограде и Москве. 406–407.
. Артиллерия свое жестокое дело сделала.
В 21.00 второго ноября Московский ВРК издал приказ: «Революционные войска победили, юнкера и Белая гвардия сдают оружие. Комитет общественной безопасности распускается. Все силы буржуазии разбиты наголову и сдаются, приняв наши требования. Вся власть в Москве в руках Военно-революционного комитета» [3194] Московский Военно-революционный комитет. М., 1968. С. 165.
. Писатель Наживин прошелся по городу. «Всюду вооруженные представители — не старше восемнадцатилетнего возраста — победоносного пролетариата, при виде которых буквально душа сжимается: эти — по лицам видно — не остановятся не только перед разрушением Кремля, этим «все нипочем». И когда увидел я с этой удивительной — такой во всей Европе нет! — Красной площади расстрелянные Никольские ворота, и сильно поврежденную снарядом угловую, к реке, башню, и могилы, под стеной, несчастных, слепых и озлобленных людей, погибших обманом за несбыточное и за чуждый и непонятный им «интерцентрал», и исклеванные пулями крепостные стены, и жалкие красные тряпки, болтавшиеся над древними башнями, в душе моей поднялся глухой, но властный протест… И, разбитые снарядом, замолкли старые куранты на изящной Спасской башне, и не слышно было их задумчивых, грустных и нежных переливов, которые своими светлыми гирляндами овевали жизнь всякого москвича с колыбели до могилы» [3195] Наживин И. В. Записки о революции. М., 2016. С. 118.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
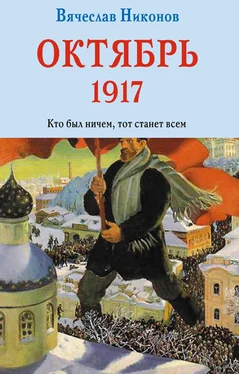



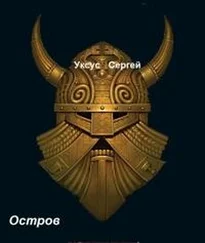

![Вячеслав Никонов - Ленин. Человек, который изменил всё [litres]](/books/399917/vyacheslav-nikonov-lenin-chelovek-kotoryj-izmenil-v-thumb.webp)