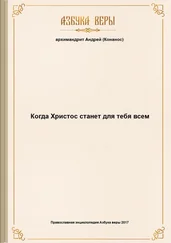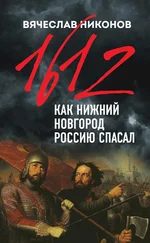Именно после этого дебюта одной из первых ласточек «бескровной» С. С. Толстой заявил, что не находит возможным продолжать заседания земского собрания… Стадо с некоторым недоумением вытаращило глаза, а мы дружно встали и через столовую, чтобы не смешиваться с «товарищами», направились к выходу. «Вот судьба, — подумалось мне, когда я спускался с широкой входной лестницы нашего Дворянского дома. — Мой дед 53 года тому назад поднимался сюда на торжество рождения русского земства, я спускаюсь сегодня после его похорон» [849] Мельников Н. А. 19 лет на земской службе // «Российский архив»: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. 17. М., 2008. С. 415–416.
.
Естественно, дворяне составляли большинство высшего военного командования и значительную часть офицерства, которые пострадали в первую очередь. Их первыми избивали и изгоняли. И для них революция, провозгласившая важнейшей целью избавление землевладельцев от земли, тем более не могла стать своей. «Революция явилась в армию с лозунгом «За землю и волю»… Но это было явно не убедительно для офицерства, например, гвардейского корпуса, где представлена была наша земельная аристократия. Обращаться с таким лозунгом — значило требовать жертв для того, чтобы в награду у них землю отняли» [850] Станкевич В. Б. Воспоминания. 1914–1919. Ломоносов Ю. В. Воспоминания о Мартовской революции 1917 г. М., 1994. С. 103.
, — замечал Станкевич.
Помещики, все крупные землевладельцы были поставлены сразу перед перспективой потери своих земель и имущества. Даже еще до того, как начались погромы усадеб. Это было программой новых властей. Эсер Наум Яковлевич Быховский подчеркивал: «Важнейшей переходной мерой до разрешения земельного вопроса Учредительным собранием было требование передачи земельным комитетам всех земель, «не используемых владельцами в текущем сельскохозяйственном периоде», для распределения ее между нуждающимися в земле, в интересах не только крестьянства, но и государства и армии. Так как уже с момента революции крестьяне отказывались наниматься на работу к помещикам, то последние в большинстве случаев совершенно были лишены возможности «использовать» свои земли под собственные посевы. Поэтому передача земельным комитетам для распределения между крестьянами «неиспользуемых» земель фактически означала немедленное лишение помещиков земли» [851] Быховский Н. Я. Всероссийский Совет крестьянских депутатов 1917 г. М., 1929. С. 52.
. Кроме того, как писал Троцкий, «призрак крестьянской войны уже с дней марта висел над помещичьими гнездами… Во многих местах помещики, напуганные революцией, воздерживались от весеннего сева… Не надеясь на новую власть, помещики приступили к спешной ликвидации своих имений» [852] Троцкий Л. Д. История русской революции. Т. 1. М., 1997. С. 376–377.
.
О том, что они испытывали, оставлено много воспоминаний. Ограничусь двумя авторами. Сначала отрывки из дневников Пришвина. 9 мая: «Моя дача в старой усадьбе в революцию стала моим большим нервом… Недавно лишили меня запаса ржи и раздавали его бессмысленно крестьянам, которые богаче меня, на днях лишат запаса дров, поговаривают о том, чтобы в мой дом перевести волость. Никому нет дела, что семена клевера я купил на деньги, заработанные в социалистической газете, что жалованье моему единственному рабочему идет тем же путем… Земля поколебалась, но этот сад, мной выстраданный, насаженный из деревьев, взятых на небе, неужели и это есть предмет революции?… Про себя решено землю у помещика отобрать, про себя каждый тащит из именья, что может, а снаружи сельский комитет дает ручительство, что сучка не возьмут, делают смешные выступления ревности: помещик будто бы плохо следит за собственностью… Эта маска порядка во имя грабежа пришлась очень к лицу русского мужика». 20 мая: «На мое клеверное поле едут мальчишки кормить лошадей, бабы целыми деревнями идут прямо по сеянному полю грабить мой лесок и рвать в нем траву, тащат из леса дрова… Меня уже совершенно не слушают, потому что я собственник и держу сторону правительства… С мечтой социализма Земли и Воли я распят на кресте моей собственности» [853] Пришвин М. М. Дневники 1914–1917 // Великая русская революция глазами интеллектуалов. С. 70, 72, 73.
.
Второй автор — князь Жевахов. Когда его отпустили из тюрьмы, он уединился с сестрой в имении: «Мы оба сознавали, что не можем строить никаких планов на будущее, ибо были со всех сторон отрезаны и никуда не могли выехать, и что нам нужно примириться с фатально сложившимися условиями и… ждать, ждать без конца, когда эти условия изменятся… Привыкнув к строго размеренной жизни, где каждый час был заполнен определенным содержанием, я чувствовал себя несчастным, будучи выбит из привычной колеи жизни, не имея возможности совладать со своим настроением, не позволявшим мне сосредоточиться и управлять своими мыслями, и я то садился за письменный стол, то снова срывался, не зная, куда бежать и что делать с собою, и как скоротать несносные, тягучие дни… Ко всему этому прибавлялась неизвестность о завтрашнем дне, страх преследования, неизвестность о судьбе своих близких, друзей и знакомых, я не знал, где они и что с ними».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
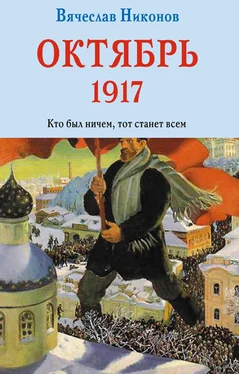



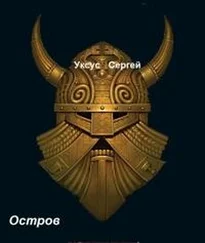

![Вячеслав Никонов - Ленин. Человек, который изменил всё [litres]](/books/399917/vyacheslav-nikonov-lenin-chelovek-kotoryj-izmenil-v-thumb.webp)