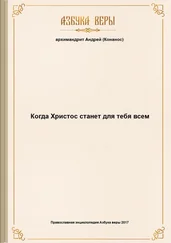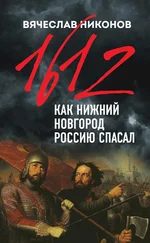В результате мер Некрасова по демократизации в МПС, наложенных на развал правоохранительной системы, транспортная система разваливалась. Временное правительство обращалось с воззванием к армии, где говорилось, что «со многих железных дорог приходят сообщения о бесчинствах и насилиях, которые допускаются группами солдат по отношению к пассажирам и железнодорожным служащим. Занимаются чужие места в пассажирских вагонах, разбиваются в них стекла, самые вагоны переполняются солдатами до того, что в них прогибаются рессоры и лопаются оси, к служащим предъявляются, под угрозами насилия требования, противоречащие основным правилам безопасности движения поездов…» [636] Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 1914–1918. Т. 1. С. 504–505).
Дальше становилось только хуже. С Рязанско-Уральской железной дороги доносят, что солдаты постоянно требуют, угрожая насилием, отправлением поездов раньше срока — сообщало в мае «Новое время». Проезжающие в вагонах бросают в служащих разными предметами, нанося им поранение. Начальник Мурманской железной дороги доносит, что солдаты занимают все вагоны II класса, вытесняя пассажиров на площадки вагонов, и отказываются предъявлять билеты. На Сызране-Вяземской дороге избили начальника станции Кропачева. Хотя поезда сопровождаются военными делегатами, это часто не спасает пассажиров от буйства солдат» [637] Новое время. 1917. 14 мая. № 14777.
.
Печальная картина наблюдалась даже на элитной линии Петроград — Царское Село, которой пользовалась княгиня Ольга Палей: «Железная дорога стала пыткой. В первом классе расхристанные солдаты оскорбляли дам, желавших сесть. Оконные окна в вагонах были разбиты, обивка с диванов содрана. Количество вагонов за нехваткой топлива сократили, пассажирам приходилось ехать стоя, в давке» [638] Палей О., княгиня. Воспоминания о России. С. 66.
.
Дезорганизован был не только пассажирский и товарный железнодорожный транспорт, но и общественный тоже. Газета «Копейка» 17 марта: «Вчера вместо обычных 700 вагонов трамвая работали только 350. Поэтому — страшная толкотня» [639] Газета-Копейка. 1917. 17 марта. № 228.
. Бубликов констатировал: «Трамваи в Петербурге при 5-копеечной плате были исключительно доходным предприятием. Теперь, хотя они работают так, что публика стоит в три ряда, висит на подмостках, они стали при 15-копеечном тарифе дефицитным делом. Но зато кондукторши получают по 300 рублей в месяц. Та же картина во всех государственных предприятиях и учреждениях. Товарные тарифы повысили сперва в три, а потом даже в четыре раза, и все-таки дороги едва сводят концы с концами» [640] Бубликов А. А. Русская революция. С. 102–103.
.
Развал в промышленности и на транспорте сделал бессмысленной биржевую торговлю, которая просто сошла на нет. «25 февраля состоялось последнее официальное биржевое собрание и вышла официальная биржевая котировка. 27 февраля биржевики собрались в помещении биржи в довольно ограниченном составе, причем единогласно было принято решение не совершать никаких сделок и оставить в силе котировки 25 февраля… С 27 февраля официальных собраний не происходило. Аналогичное положение сложилось и в Москве. После приостановки биржевых собраний неофициальные сделки хотя и имели место, но в очень ограниченных размерах и лишь с некоторыми бумагами» [641] Лизунов П. В. Биржи России и Европы в годы Первой мировой войны // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918. С. 486.
.
Финансы России не могли себя чувствовать лучше, чем экономика в целом. Тем более что занимавшийся ими Терещенко был не типичным министром финансов: «За три месяца, что он стоял во главе Министерства финансов, он ни разу не удосужился принять доклад от Директора Департамента государственного казначейства — этого главного бухгалтера государства Российского!.. В то время, когда поддержание финансов государства являлось делом первейшей важности, мы побоялись, страха ради иудейска перед улицей, поставить во главе ведомства авторитетного банкира или экономиста-практика, предпочтя взять юношу без всяких знаний и без опоры в стране. Естественно, что для «укрепления» своего «завоевания революции» — министерского портфеля — он должен был начать с первого же дня раздачу государственных средств, ведь надо же было быть «приятным». И раздача началась» [642] Бубликов А. А. Русская революция. С. 67.
.
В марте эмиссия достигла своего исторического максимума, в апреле снизилась, но затем стала разгоняться бешеными темпами, превзойдя дореволюционный уровень в 4 раза. До октября будет напечатано 6 млрд 412 млн рублей царских образцов. И уже весной были запущены в обращение собственные деньги упрощенного дизайна — кредитные билеты достоинством в 250 рублей (двуглавый орел на них был лишен императорских регалий) и 1000 рублей с изображением Таврического дворца, за что их называли «думками» [643] Петров Ю. А. На пути к финансовой катастрофе // Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис. М., 2014. С. 813–814.
. Летом стали печатать казначейские билеты достоинством 20 и 40 рублей — неразрезанными блоками по 40 знаков, без номеров, подписей и года выпуска. «Появились новые деньги, сразу же названные «керенками» в честь их создателя, — вспоминал Вертинский. — Они были маленькие, имели жалкий вид и походили на этикетки от лекарств. Спекулянты стали сразу «зарабатывать» их целыми простынями» [644] Вертинский А. Н. Дорогой длинною… М., 2004. С. 87.
. Позднее «керенки» станут популярным видом обоев в деревнях. Предшественник Гознака был едва ли не единственным предприятием в России, резко увеличившим объемы производства. К октябрю покупательная способность рубля снизилась до 6–7 дореволюционных копеек.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
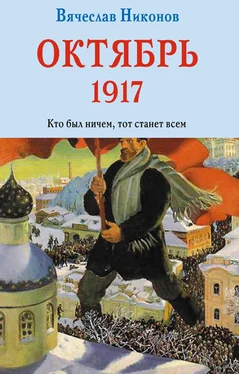



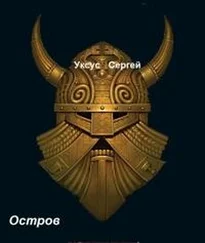

![Вячеслав Никонов - Ленин. Человек, который изменил всё [litres]](/books/399917/vyacheslav-nikonov-lenin-chelovek-kotoryj-izmenil-v-thumb.webp)