Купеческое ремесло также требовало решительности и целеустремленности. «Нельзя не удивиться постоянству и настойчивости купца, — свидетельствует тот же Ив. Аксаков. — Для того, чтобы провезти хлеб от Саратова в Петербург вверх по Волге, хлопот — страшно сказать сколько. Возня с казною, с лоцманами, с бурлаками, с коноводами, с перегрузкой, с крючниками… <���…> Пословица говорит: купец торгует и век горюет; крестьянин пашет да песенки поет. — Зато купцы до такой степени свыкаются с своим занятием, что торговля ему делается необходима иногда даже вовсе не ради барыша. Эта постоянная лотерея, это состояние между страхом и надеждою, этот „рыск“, как они говорят, становится для него второю природой».
Эти самые ярославские купцы — те же крестьяне; многие из них — даже и крепостные. «Например, Ростов: почти все богачи в нем — приписные из крестьян; зато, проживая в Ростове, они ведут торговлю с Хивой, Персией, Китаем, Сибирью и торгуют постоянно вне Ростова, где нет торговли и где без ярмарки пребывающие на одном месте жители были бы совершенно бедны. Кто завел огороды в ростовском уезде, когда ни почва, ни климат не благоприятствуют ему более, чем в Угличе или в других местах? — Крестьянин» [14] Аксаков И. С. Указ. соч. С. 39, 154.
.
Крестьянин, становясь купцом (и вообще «отходником») поневоле должен был по-иному осознать окружающий мир. Процент грамотных крестьян в Ярославской губернии в середине XIX в. был самым большим по России. Образование это, правда было вполне «доморощенное» и не предполагало особой устремленности к высотам мировой культуры, но даже и оно позволило ярославскому мужику хоть как-то выразить себя в слове .
Большинство крестьянских воспоминаний XVIII–XIX вв. — это повествования о том, как их автор, начавший жизнь крестьянином, в конце перестал быть таковым, как он «из бедности и ничтожества возвысился до богатства и почетного общественного положения». Таковые встречались — чаще между теми же «ярославцами». Так, Александр Петрович Березин (1723–1799), сын бедного крестьянина из села Еремейцева Рыбинского уезда Ярославской губернии, стал купцом 1-й гильдии, поставщиком двора ее императорского величества, затем, к шестидесяти годам, был выбран петербургским городским головою. Сохранились не воспоминания его, а биография, писанная (частью — от лица самого купца) безграмотным и наивным литературным подмастерьем, претендующим на красноречие и «красивости» в духе модного сентиментализма [15] См.: Сокращенная жизнь покойного санкт-петербургского купца первой гильдии Александра Петровича Березина, писанная по его воле незадолго до кончины сего Богом благословенного мужа и наконец согласно образу его жизни и деяний вновь сочиненная Н.Н., в память потомства его, по соизволению любезнейшей его дочери и зятя с. — петербургского второй гильдии купца Петра Яковлевича и супруги его Пелагеи Александровны Туфановых, урожденной Березиной, в 1807 году, января _ дня // Рус. архив. 1879. № 2. С. 226–235. Далее цитируется по этому тексту.
.
Биография начинается перечислением тех невзгод, которые «герой» пережил в детстве. Восьми лет «отдан был в пастухи», работал «за пятьдесят копеек целое лето»; трудясь к тому же во время сенокоса («до пробуждения товарищей косил траву с столь великим усердием, что чрез то приобрел уважение»). И тут, как водится, явилось ему знамение: «Осень в прохладных и мокрых днях от проливных дождей и бурь часто загоняла меня искать убежища в густоте кустарников. В один день, испытав всю жестокость непогоды, едва имея силы укрыться под куст, отчаяся, лишася надежды на образ жизни моея, воскликнул: „На что меня мать родила!“ Сии слова были последние в унылых и тягостных моих рыданиях. Как вдруг нечто сверхъестественное проникло меня и поразило слух мой; внимание мое отверзлось, и все чувства мои были осенены благодатию; глас свыше разлился в душе моей; я оный слышал в сих вловах: „Господь тебя на труды поставил, не тужи, молись Господу, и ты будешь богат!“ Неведомая радость и утешение озарили сердечное мое движение…»
Знамение — дело серьезное. Будущий купец 1-й гильдии внял голосу свыше и «пустился в неизвестный путь» в далекий Питер. Ведя «жизнь трудовую и неусыпную», занимаясь «благодеяниями» и почитая Господа, он вдруг разбогател. Каким именно образом разбогател — биография сообщает туманно и иносказательно, но «твердое упование на всемогущество Божие» сделало свое дело: герой стал тем, кем он стал. «Житийная» схема, положенная в основу этой биографии, показательна и для ранних воспоминаний крестьян, волею судеб ставших купцами либо даже дворянами и владельцами собственных поместий, как псковский грамотный мужик Леонтий Травин, чьи «Записки» открывают настоящий сборник.
Читать дальше
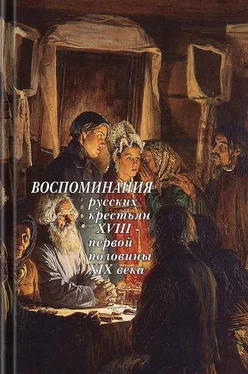







![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/420907/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya-thumb.webp)



