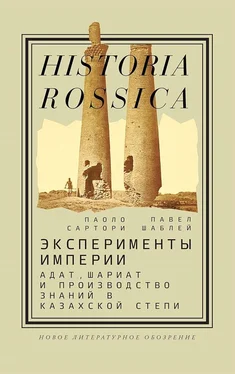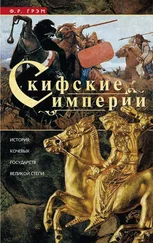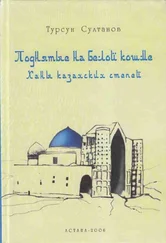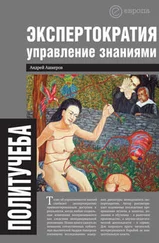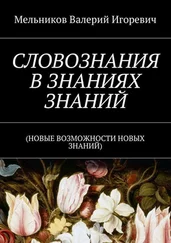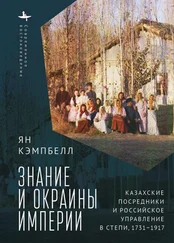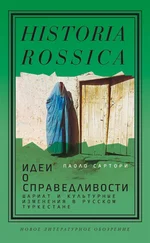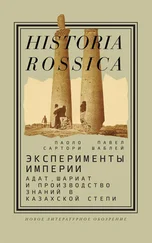Признавая относительность позитивистского подхода, мы тем не менее не отрицаем, что эффективность и масштаб многих реформ в Казахской степи зависели от производства знаний и ресурсов, которые могли использовать в своей деятельности местные и центральные институты управления. Другой вопрос — это то, что такие знания не были систематизированы и обобщены в какой-либо определенной целостности и непротиворечивости. Разные люди и институты часто представляли свои версии имперского знания (не только явно, но и скрытно), которые, вступая в противоречие друг с другом, затрудняли решение тех или иных задач по управлению Казахской степью и ее реформированию.
В осуществлении имперской политики на территории Младшего жуза важную роль играла Оренбургская пограничная комиссия, образованная в 1799 г. [107] Фактически история Оренбургской пограничной комиссии восходит к 1734 г., когда была учреждена «Киргиз-кайсацкая экспедиция», переименованная затем в Оренбургскую. В 1774 г. по инициативе П. И. Панина была создана Оренбургская экспедиция иноверческих и пограничных дел при Оренбургской губернской канцелярии. С января 1782 г. это учреждение называлось Оренбургской пограничной экспедицией, а с марта 1799 г. — Оренбургской пограничной комиссией. См.: Касымбаев Ж. Государственные деятели Казахских ханств XVIII — первой половины XIX в. Т. 2. Хан Айшуак. Алматы, 2001. С. 105, 169; Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. С. 185–207.
В 1820‐е гг. после отмены ханской власти у казахов Оренбургского ведомства и трансформации местных управленческих структур роль ОПК значительно возросла. Наряду с судебно-арбитражными функциями это учреждение определяло к должностям султанов-правителей, начальников дистанций, аульных старшин [108] См.: Материалы по истории политического строя Казахстана. С. 205–211.
. В число главных обязанностей этих лиц входило предотвращение нападений на пограничные линии, защита торговых караванов, информирование российской администрации о ситуации в Степи [109] См.: Перфильев А. Л. Межродовые конфликты казахов и их урегулирование (80‐е гг. XVIII в. — 60‐е гг. XIX в.). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2011. С. 25.
. Изучая деятельность ОПК, некоторые исследователи склонны переоценивать значение этого учреждения, в том числе преувеличивают его ресурсы и возможности. Так, по мнению А. Л. Перфильева, в 1830–1840‐е гг. ОПК могла эффективно влиять на урегулирование межродовых споров казахов. Произошло это потому, что после отмены ханской власти так называемые народные собрания (суды биев, чрезвычайные съезды и др.), организованные по заказу империи, должны были трансформировать ряд положений обычного права и возложить контроль над исполнением своих решений уже не на ханов, а на колониальную администрацию [110] Там же. С. 26.
. Трудно согласиться с А. Л. Перфильевым в том, что такой подход имел большую эффективность и соответствовал менталитету местного общества. Скорее следует принять за основу другие положения и прежде всего обратить внимание на попытки исследователей переосмыслить роль так называемых «туземных акторов» или колониальных посредников [111] См.: Campbell I. Knowledge and the Ends of Empire. Р. 5–9.
. Мы полагаем, что позиции и интересы султанов и биев, участвовавших в урегулировании межродовых конфликтов, не всегда были прямолинейны и предсказуемы. Они соответствовали выбору разных стратегий поведения. Одна из таких стратегий могла включать только формальную опору на имперские знания о Степи и в большей степени зависеть от логики собственных интересов и властных амбиций. Необходимо признать справедливыми и выводы Ж. Джампеисовой. По ее мнению, организация крупных съездов не приносила долговременного результата, так как эффективность «механизмов адата зависела от величины сегментов (т. е. степени консолидации между родами), разрешавших конфликт» [112] Джампеисова Ж. Казахское общество и право в пореформенной степи. Астана, 2006. С. 155–156.
. Таким образом, деятельность ОПК и ее знания в контексте, рассмотренном А. Л. Перфильевым, не соответствовали возможностям этого учреждения для поиска более действенных механизмов урегулирования межродовых конфликтов. Российские чиновники не понимали, что обычное право более эффективно справляется с конфликтами в мелких группах, чем в больших [113] Там же.
.
Важной составляющей колониального управления было изучение местных языков. Как обстояло дело с этим в Оренбурге? В 1825 г. в этом городе было открыто Неплюевское (в честь оренбургского генерал-губернатора И. И. Неплюева) военное училище [114] В 1845 г. училище было переименовано в кадетский корпус. См.: Матвиевская Г. П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Очерк истории. М., 2016. С. 63.
. Основная его задача заключалась в подготовке переводчиков [115] При губернаторе П. П. Сухтелене (1830–1833) тактические задачи училища были скорректированы и основное внимание стало уделяться подготовке переводчиков не из мусульман, а из русских. См.: Там же. С. 28.
, чиновников и военных кадров, происходивших из народов, населявших Оренбургский край. Однако доля казахских детей среди учащихся до середины 1840‐х гг. не была значительной. По данным на 1 января 1839 г., в Неплюевском училище обучалось 77 русских и только 17 «азиатцев» [116] С. В. Горбунова не приводит данных об этническом составе этих «азиатцев». См.: Горбунова С. В. Обучение казахов в Неплюевском военном училище (кадетском корпусе) (1825–1866) // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Ч. 1 / Отв. ред. А. В. Коричко. Нижневартовск, 2015. С. 88.
. Всего же это учебное заведение в период между 1825 и 1866 гг. окончило 37 казахов [117] Там же. С. 89.
. Есть все основания полагать, что такое число выпускников не могло обеспечить нужд колониального управления. Более значительную роль играли татарские переводчики. Несмотря на рост исламофобии имперских чиновников и оценку татар в качестве культурных и политических соперников [118] По мнению японского исследователя К. Мацузато, татары-мусульмане были включены в число «уважаемых врагов» империи. См.: Мацузато К. Генерал-губернаторство в Российской империи: от этнического к пространственному подходу // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 450–451.
русских в Казахской степи (особенно с середины 1850‐х гг.), даже В. В. Григорьев вынужден был признать, что через этих переводчиков (татарских) «велись все сношения с кайсаками, которые во всех совещаниях администрации участвовали как эксперты, без которых ничего не предпринималось, не делалось…» [119] Хисамова Ф. М. Татарский язык в восточной дипломатии России (XVI — начало XIX вв.). Казань, 2012. С. 47.
Анализируя штат ОПК за 1856 г., мы находим, что из шести переводчиков четверо были татарами и башкирами, а казахов не было ни одного [120] Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН (Архив востоковедов ИВР РАН). Ф. 61. Оп. 1. Д. 14. Л. 5 об. — 6.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу