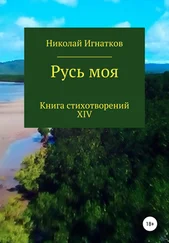Оставляю здесь в стороне спорный вопрос о том, кто были в действительности Аскольд и Дир, выступали они вместе в первоначальном виде предания или один из них введен в него позже, и т. д. Несмотря на то, что имя, по крайней мере одного из них, Аскольда, удачно объясняется из древнескандинавского Hpskuldr , варяжское происхождение их обоих подлежит сомнению [379]; его можно отнести за счет того же летописца, который сделал их братьями между собой и дружинниками Рюрика. То обстоятельство, что от одной варяжской дружины отделяется другая и в дальнейшем предпринимает походы и набеги в поисках добычи независимо от первой, не представляется необычным для эпохи викингов. Летописец, желая связать Аскольда и Дира с Рюриком и представить их его дружинниками и, конечно, варягами, мог воспользоваться в данном случае примером из жизни, а не только одним вымыслом.
В позднейших хронографах XVI–XVII вв. Аскольд и Дир — не более не менее как племянники Кия, убитые Олегом, взявшим Киев [380]. Есть вариант, по которому Олег отнимает Киев не у них, а у самого Кия и его братьев [381]. По третьей версии Кий, Щек, Хорив и их сестра разбойничали в Новгороде, были пойманы Олегом, помилованы и отпущены в Киев, где на них напали Аскольд и Дир, посланные Олегом в Царьград; этим и был вызван поход Олега против Аскольда и Дира [382]. Все эти поздние варианты имеют, по-видимому, целью установить прямую связь между преданиями о Кие с братьями, об Аскольде и Дире, об Олеге и Игоре. В сущности, это те же приемы книжной обработки древних преданий, которыми пользовались и более ранние летописцы. Шахматов полагает, что имена Аскольда и Дира были соединены в местном киевском предании, а гибель их в связи с нападением Олега на Киев — комбинация составителя Древнейшего свода [383]. Он сомневается, чтобы в устном предании Олег имел дело с Аскольдом и Диром, и считает возможным, что оно приписывало Олегу убиение Кия с братьями, о чем и говорится в позднейших летописных сборниках [384]. Почему в некоторых из них устранены Аскольд и Дир и проведена прямая линия от Кия к Олегу — один из тех вопросов, для которых требуется особое исследование о преданиях древнейшей летописи в составе московских сводов. Пока можно лишь выразить сомнение в предполагаемом Шахматовым фольклорном происхождении этого, в частности, варианта, основанного, может быть, на том, что в глазах сводчика Кий как эроним был ярче и выразительнее Аскольда и Дира; это и побудило его непосредственно перекинуть мостик от Кия к знаменитому Олегу.
Не касаюсь также неясностей и противоречий, связанных с вопросом о взаимоотношении между полулегендарными в трактовке летописца образами Олега и Игоря, в том виде, в каком дает это летопись и как пытаются восстановить исследователи. Как уже было сказано, Олег был превращен в воеводу Игоря, по предположению Шахматова, — еще в Начальном своде, а вслед за этим сводом и в Повести временных лет. Но та же Повесть временных лет вводит в свой текст такой документ, как греко-русский договор 911 г., в котором нет ни слова об Игоре и великим князем является Олег.
Об Олеге высказан ряд интересных соображений в связи со спорным вопросом об отождествлении его с «царем Руссии» Хальгу, известным из хазарско-еврейской переписки X в. (кембриджский документ). По мнению некоторых исследователей, Хальгу — может быть, только тезка вещего Олега и один из оставшихся неизвестными в летописи представителей русского «княжья» X в. [385]Не входя во все подробности вопроса о Хальгу, упомяну лишь об указании кембриджского документа на взятие этим Хальгу Самбарая (Тмутаракани) «воровским способом», что напоминает как будто взятие Киева Олегом по летописи [386].
Поскольку здесь неизбежно приходится хотя бы и далеко не исчерпывающим образом касаться поздних вариантов интересующих нас летописных сказаний, отмечу одну подробность в тексте Повести временных лет под 882 г. С первого взгляда кажется несколько странным, что приезжий купец, каковым прикидывается Олег, вызывает к себе киевских князей, а не отправляется к ним сам. Это наводит на мысль о непервоначальном виде этого места в летописи. А. И. Кирпичников обратил внимание на эту несообразность и на попытки позднейших сводчиков исправить ее [387]: так, например, по Никоновской летописи, Олег сказывается больным, а потому и приглашает к себе киевских князей. Возможно, что в данном случае перед нами не поправка книжника, а следы какого-то устного варианта; из числа поздних сводов именно Никоновский заключает в себе немало подлинного фольклорного материала. Рационализировать изложение, в котором встречается какая-нибудь несообразность, может и устная передача; это — не исключительно черта книжной обработки.
Читать дальше
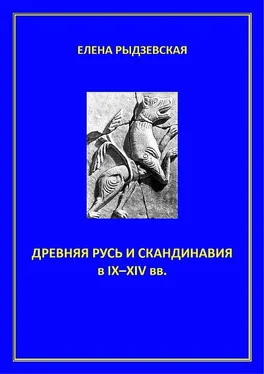




![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)