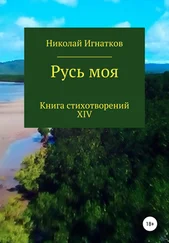Приблизительно такую же картину дают и археологические разыскания, произведенные в Прибалтийском крае и в области полабских славян [288]. В гористых и скалистых местностях располагались норвежские и исландские города-крепости; саги дают? много сведений об укреплениях ( borgar ) и разных защитных сооружениях ( virki ) [289]. Как на Руси преобладали в связи с природными условиями дерево и земля в качестве материала для сооружения укреплений, так у норвежцев и исландцев могли иметь, в зависимости от природы их страны, большее применение камень, торф и даже лава, но знаменитый датский вал Danavirki был в большей части своей сооружен из дерева. Положение укрепленного пункта определялось теми же приблизительно топографическими условиями. Есть указания на то, что и здесь, как и всюду, он мог служить временным убежищем для окрестных жителей с их имуществом в случае нападения врагов, т. е. являться тем, что немецкие ученые называют Fluchtburg .
Необходимо отметить также характерные, картины (укрепленных дворов-усадеб, рисующиеся нам в сагах. Ограда хутора могла приобрести значение укрепленного вала, если была достаточно высока и прочна; обнесенный ею, удобно расположенный, с точки зрения, так сказать, стратегической, двор приобретал значение укрепленного пункта, и картина враждебного столкновения двух вождей производит впечатление осады и обороны настоящей крепости [290]. Но едва ли можно в этих известиях искать подтверждения существованию такой значительной разницы между русскими и скандинавскими городами того времени, что вследствие нее первые назывались garðr 'aми по сходству со скандинавскими городами-усадьбами. Во-первых, не все эти последние бывали укреплены, а во-вторых, большинство подобных известий относится, как это видно из Sturlunga saga , к довольно позднему периоду, ко времени наиболее обостренных междоусобий в Исландии (первая половина XIII в.).
Таким образом, несмотря на то что разница между скандинавским и славяно-русским типом расселения и соответствующего быта и устройства, несомненно, была, литературные и археологические данные едва ли подтверждают предположение В. Томсена. Разъяснение и вместе с тем поправку к Garðariki — «Страна городов» может дать иная постановка вопроса, предложенная Ф. А. Брауном: в применении этого слова к русским городам в окончании скандинавских названий Киева и Новгорода Кænugarðr и Holmgarðr [291], а также, вероятно, и Константинополя Мікlagarðr следует видеть не древнескандинавское слово garðr с присущим ему в этом языке смыслом и значением, а переделку на скандинавский лад русского «городъ» — слова одного корня с ним и близкого по значению. Его-то и следует считать исходной точкой при истолковании того названия, которое скандинавы давали Руси.
Неизбежно возникает вопрос о том, почему скандинавы не называли русских городов привычным им словом borg , которое, кстати сказать, к укрепленным дворам-усадьбам, как таковым, саги не применяют. Возможно, что причину следует искать в том особом оттенке, который имел его смысл в древнескандинавском языке; наиболее знакомое нам его значение — «город, главным образом укрепление», аrх ; второе — «возвышенность, небольшая гора, утес, уступ, горная площадка, круто обрывающаяся с одной стороны над низменной полосой земли» [292]. Местные названия, заключающие в себе это слово, могут происходить как от укрепления, постоянного или временного, так и от природной возвышенности, хотя бы на ней и не было никогда укрепленного пункта [293]. Их довольно много как в Исландии, так и в Норвегии. Саги, кроме того, часто употребляют это слово и в значении природной возвышенности, как таковой [294]. Не исключена поэтому возможность, что оно было слишком тесно связано с представлением о высокой горной местности, чтобы вполне подходить к русским городам в большинстве случаев [295]. Вместо него могло скорее привиться другое, а именно garðr . Оно было очень обычно, так как выражало собою весьма распространенную форму скандинавского быта и поселения. Посредством него же легко передавалось близкое ему по происхождению и по значению русское «городъ», весьма обычное, в свою очередь, и в русской речи, и в русском государственном, военном и экономическом быту, в котором город имел такое выдающееся значение, как военный, защитный и торговый центр. Это возвращает нас опять к той же «теории городов» В. О. Ключевского [296].
Памятники древнерусской литературы сохранили сравнительно немного местных названий, в состав которых неотделимо входит слово «городъ», — Новгород (Новгород Великий и Новгород «въ земле рустеи», т. е. Новгород Северский), Вышгород, Звенигород, Белгород, — но оно подразумевается при всяком таком названии, как Переяславль, Всеволожь, Глебль, Володимерь (Владимир Волынский), т. е. город Переяслава, Всеволода, Глеба и т. д., Киев — город Кия, по толкованию летописи, затем Полотьскъ, т. е. Полотский город, Смольньскъ, Сновьскъ и т. д., иногда в распространенной форме «градъ Бужескъ», «градъ Белъ», «Святополчь градъ» и т. п. [297]
Читать дальше
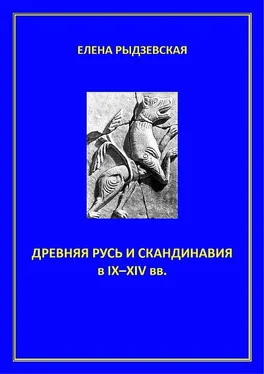




![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)