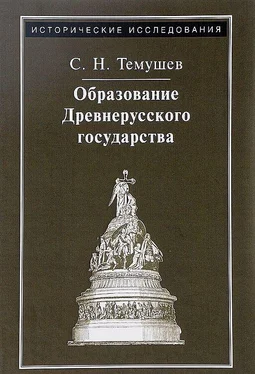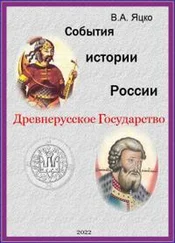Погребальный обряд, который формируется в X в. около поселений типа Гнездово в Верхнем Поднепровье, Тимерево в Верхнем Поволжье, вокруг Киева и Чернигова, связываемый обычно с дружинным сословием, значительно отличается от обрядов славян или балтов, отмечаемых в предшествующий период. Господствующей формой погребального памятника становится обычный полусферический курган, а формой обряда — трупосожжение. Древнерусские курганы близки «большим курганам» Скандинавии. Так для Руси и Скандинавии встречается захоронение в ладье, характерно использование в обряде погребения оружия и пиршественной посуды, а также осуществление жертвоприношения (козла или барана, реже людей). Обстановка погребального обряда напоминает исследователям следование совершавшими ритуал представлениям о Вальхалле, загробном чертоге Одина, где тот принимал избранных героев — ярлов и конунгов, павших в битве. Такие представления приобретают особый смысл, принимая во внимание то, что правитель являлся не только гарантом права и благополучия своей страны, но был также гарантом мирового порядка, традиционных устоев, включая мир сверхъестественного. Один набирал дружину героев, которой предстояло сразиться с силами Хаоса, которые грозили повергнуть мир людей и богов. Смерть правителя, особенно в бою, усиливала эту дружину. Поэтому погребальный обряд воспроизводил загробную жизнь в Вальхалле [731] Петрухин В. Я . Древняя Русь: Народ. Князья. Религия. С. 249–250.
.
В последнее время выдвинуто предположение, что погребенные в курганах с наиболее богатым инвентарем, обнаруживаемые в различных уголках Восточной Европы, связаны между собой не только в «этнокультурном» отношении, но и генеалогически. В то же время древнерусские монументальные погребальные памятники по обряду близки «большим курганам» Скандинавии [732] Там же. С. 249, 251–252.
. В них могли быть захоронены представители единого княжеского рода. Тем не менее летописи совершенно ясно дают понять, что верховный правитель с 80-х гг. X в. находился в Киеве.
Древнерусская раннеисторическая традиция, как и скандинавские источники, касаясь описания деяний первых правителей, особое внимание уделяют обстоятельствам их смерти и месту погребения. Относительно смерти Олега существуют различные версии. Нестор приводит знаменитую легенду о гибели киевского князя от укуса змеи в 912 г., могилу его составитель летописи знал еще в начале XII в. в Киеве на горе Щековице [733] Повесть временных лет. С. 20.
. Составитель Новгородской Первой летописи младшего извода не обладал точными данными обстоятельств смерти Олега и привел сразу две версии. По одной князь закончил свою жизнь в Ладоге, где находится и его могила. По другой Олег ушел за море, где его «уклюну змиа в ногу» [734] НПЛ. С. 109.
. Обе версии помещены под 922 годом. Противоречия с местом смерти Олега могут быть связаны с критикой источников. Однако российскими историками предположено существование двух могил Олега одной реальной, другой символической. Погребение в Киеве и Ладоге позволяет наметить умозрительную государствообразующую ось экономическое содержание которой составил транзитный Балтийско-Днепровско-Черноморский путь — «путь и варяг в греки». Реальная или символическая могила в Ладоге может говорить о сохранении ее идеологического значения, как первого стольного города, позднее к середине X в. это значение перейдет к Новгороду. В целом различные предания о смерти Олега позволяют сделать вывод о складывании двухцентровой системы Древнерусского государства [735] Свердлов М. Б. Домонгольская Русь. С. 179–180.
. Последующие события (например, крещение Руси) подкрепляют этот вывод.
Представленная Новгородской летописью гибель Олега в 922 г. где-то за морем хорошо согласуется с данными так называемого Кембриджского документа, что позволило некоторым историкам полностью принять на веру данные этого в общем-то темного источника и пересмотреть хронологию Повести временных лет.
Кембриджским документом принято называть источник, как и Киевское письмо происходящий из Каирской генизы — хранилища старых рукописей при синагоге. В 1912 г. его обнаружил в библиотеке Кембриджского университета американский ученый С. Шехтер. Большинство исследователей считает Кембриджский документ подлинным источником X в. [736] Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 227–228. Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. С. 150.
В рассматриваемом источнике упоминается некий «царь Руси» Х-л-гу, который во время правления в Византии Романа I Лакапина (920–944 гг.) захватил хазарский город Самкерц (будущая Тмутаракань). Автор Кембриджского документа (как предполагают, это был крымский еврей или хазарин, бежавший в Византию после гибели Хазарского каганата) обвиняет греческого императора в подстрекательстве Х-л-гу в агрессии против Хазарии. Хазарскому полководцу, если верить анонимному автору рассматриваемого источника, удалось после четырехмесячной войны одолеть правителя русов и отобрать награбленное в Самкерце. Побежденный Х-л-гу дал обязательство воевать против Византии, но вновь был разбит на этот раз греками. И, как отмечает источник, устыдясь возвращаться в свою землю, отправился морем в П-р-с (Персию?), где и погиб вместе с остатками войска. «И так, — завершает свой рассказ автор Кембриджского документа, — попали русы под власть хазар» [737] Там же. С. 134–142.
.
Читать дальше