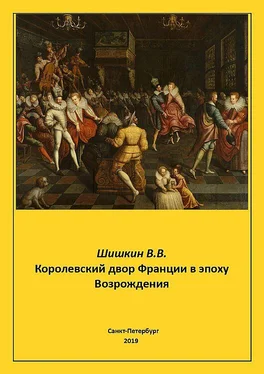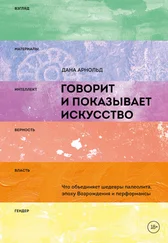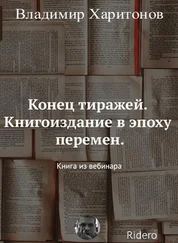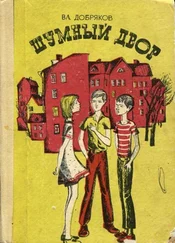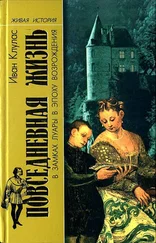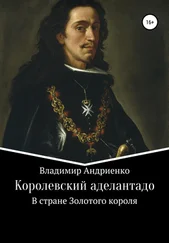В связи с постоянными войнами и пустой казной, регулярное строительство главной королевской резиденции — Лувра — началось только в 1540-е гг., и въехать туда смог только следующий король — Генрих II. Известно, что в 1551 г. он уже принимал в новом дворце венецианского посла Дж. Капелло [357] Babeau A. Le Louvre et son histoire. Paris: Firmin-Didot, 1895. P. 61.
. Тем не менее, постепенное возвращение двора в Париж и окрестные замки (особенно в перестроенный во дворец Фонтенбло [358] Демидова М.А . Идеальная резиденция ренессансного правителя. Дворец Фонтенбло эпохи Франциска I. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 69 и далее.
), поначалу только в зимний период, имело долгосрочное политическое и культурно-идеологическое последствие: впервые более чем за 100 лет французский двор вернул Парижу столичный статус ( ville résidence ), а Луврский замок, также ставший, благодаря Пьеру Леско, во второй половине XVI в. дворцом, навсегда вошел в историю как один из символов французской монархии. Даже при последующих многочисленных перемещениях королевского двора в XVI–XVII вв. по Франции, король и его окружение всегда возвращались (а во время Гражданских войн и спасались там) в Лувр как в свою главную и самую представительную резиденцию, постоянное местопребывание, домой. Церемониальная реформа Генриха III 1578–1585 гг. была, прежде всего, рассчитана на использование Луврского дворцового пространства.
У нас нет никаких оснований говорить о том, что у Франциска I был изначальный план реорганизации двора, в отличие от его внука Генриха III, воспитанного как король с детства, проводившего реформы двора целенаправленно и намеренно. Ангулемская ветвь династии Валуа, представителей которой монархи намеренно держали вдалеке от двора и большой политики, до последнего надеясь на продолжение своих, старших ветвей царствующей фамилии, воспринимала корону как Божий дар, о чем упомянет на смертном одре сам Франциск I. Граф Франсуа Ангулемский, 21-летний юноша, вступивший на трон в 1515 г., был, по сути, только провинциальным дворянином королевской крови, праправнуком Карла V, и в первые годы царствования предполагал прославить себя, прежде всего, на поле боя, отдав во многом бразды правления своей матери Луизе Савойской, более искушенной в политике и управлении.
Луиза Савойская (1476–1531), вдовствующая графиня Ангулемская, пройдя суровую школу политического воспитания при дворе своей тетки Анны де Боже, дочери Людовика XI и « Великой регентши » Франции, а затем, выдержав не менее жесткую борьбу с королевой Анной Бретонской, бесспорно, была самой влиятельной дамой двора, предвосхитившей роль Екатерины Медичи [359] Michon C. Le rôle politique de Louise de Savoie (1515–1531)//Louise de Savoie (1476–1531)/Sous la dir. de P. Brioist, L. Fagnard, C. Michon. Rennes-Tours: Presses universitaires de Rennes, 2016. P. 103–116.
. Именно Луиза Савойская, с позволения короля, устанавливала церемониальные порядки в 1515–1531 гг., создав при этом прецедент, когда она, будучи только герцогиней (титул, дарованный ей сыном в 1515 г.) Ангулемской, при публичных выходах или торжественных мероприятиях следовала сразу за королевой Франции, предшествуя дочерям Франции, включая свою дочь Маргариту, королеву Наваррскую [360] David-Chapy A . Louise de Savoie, régente et mère du roi: l'investissement symbolique de l'espace curial//Réforme. Humanisme. Renaissance. Année 2014. Vol. 79. № 1. P. 65–84.
. Позднее этим воспользуется Екатерина Медичи, которая, будучи не герцогиней-матерью, а королевой-матерью Франции, вообще оттеснит в церемониальном порядке царствующую королеву на второй план.
В это церемониальное пространство нового двора удалось довольно быстро включить самые знатные фамилии Франции. Уже с конца XV в. существующая иерархия элиты французского общества начала заметно меняться. С исчезновением суверенных домов на первое место выдвинулась знать средней руки, которая долгое время служила оплотом династии Валуа в деле собирания королевского домена. Двор короля окончательно превратил эту знать из феодального рыцарства в придворное дворянство, став цементирующей основой второго сословия. Желая привязать к себе дворянство и образовать качественно иной, служилый элитарный слой, ренессансные монархи стали практиковать создание новых герцогств — сеньорий высшего достоинства. Причем, возводимые в этот ранг фьефы намеренно были рассредоточены территориально и находились внутри королевского домена, земли которого по закону были неотчуждаемы. Все это не позволяло новой знати думать о феодальном сепаратизме прежних времен. Так, во времена Франциска I и Генриха II одними из первых новоявленных герцогов стали представители боковых ветвей Лотарингского и Бурбонского домов — Гизы (1527), Монпансье (1538), а также Монморанси (1551) — самый старый баронский род страны.
Читать дальше