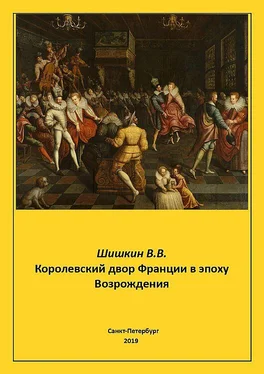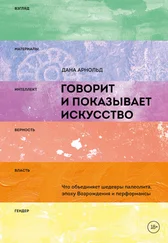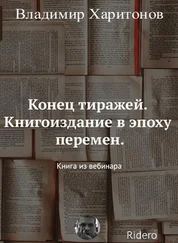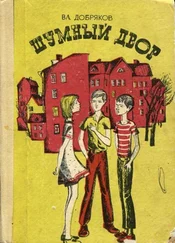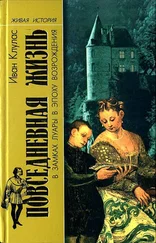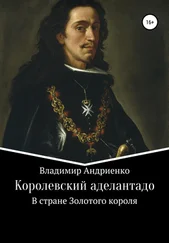Таким образом, мы приходим к мысли, что проявляемая время от времени религиозная нетерпимость Маргариты де Валуа, впрочем, наверное, как и многих членов ее семьи, — скорее результат определенных политических ситуаций, в которые она попадала, средство самосохранения и отстаивания прерогатив королевского Величества в условиях умаления авторитета королевской власти, ссор в королевской семье, распада единой страны и гражданских потрясений. Мы видим ее милосердной, когда, по ее мнению, творилась несправедливость в отношении гугенотов, и жесткой, когда приходилось сражаться с протестантами (во время т. н. Аженского эпизода ее биографии в 1585 г.) или отстаивать право на свое вероисповедание. Маргарита, не колеблясь, отдавала приказ о разрушении нескольких десятков домов богатых католиков, чтобы достроить цитадель и обезопасить город, и в тоже время привечала иезуитов, разрешив им основать свой коллеж в том же Ажене.
2.2. Двор-медиатор: между Парижем и Нераком в 1579–1581 гг.
Каким образом осуществлялась миротворческая миссия двора Маргариты, какие формы она принимала и как это повлияло на стабилизацию института французского двора в целом?
Маленький Нерак, политический центр Наваррского королевства, конечно, был не сравним с Парижем, а королевский замок на берегу реки Баиз — шедевр ренессансного зодчества начала XVI в., по сути, являлся маленьким замком провинциального сеньора. Собственно, Нерак — это один из городов, находящихся в пределах владений французского дома баронов д'Альбре, ставших королями Наварры в конце XV в. и в 1512 г. потерявших всю испанскую часть своего королевства, завоеванную Фердинандом Арагонским. Во Франции, тем не менее, помимо Нижней Наварры, собственно французской части этого королевства, этой семье принадлежало княжество Беарнское и иные владения на юге страны, в исторической Гаскони. Если гасконские владения королей рода д'Альбре подпадали под юрисдикцию французского короля, то в Беарне и Нижней Наварре они являлись суверенами. Генрих де Бурбон, наследник д'Альбре по линии матери, с одной стороны являлся подданным короля Франции и также губернатором Гиени, с другой — обладал суверенными правами, что давало ему возможность разыгрывать собственную политическую карту во время затяжных гражданских войн, усиленную тем обстоятельством, что он был первым принцем крови Франции.
Чтобы понять суть взаимоотношений двух дворов в конце 1570–1580-х гг., необходимо прояснить прежде всего, что представляла собой политическая ситуация во Франции, в частности, на гугенотском юге страны, во время временного прекращения гражданской войны.
С самого начала своего царствования Генрих III пытался перехватить инициативу у основных противоборствующих сил — католиков во главе с герцогами Гизами и гугенотов во главе с принцами Бурбонами — и поставить общеполитическую ситуацию во Франции под свой контроль. Такая возможность в особенности появилась после 1577 г., когда королевским войскам удалось потеснить силы гугенотской конфедерации во время Шестой религиозной войны и, по сути, заставить ее руководителей подписать мир в Бержераке 17 сентября 1577 г. Собственно, самому королю далее продолжать войну было невозможно, поскольку казна была пуста. Так в 1576 г., государственные доходы не превышали 14 миллионов турских ливров, а долги короны составляли 101 миллион [1170] Chaunu P. L'Ètat II Histoire économique et sociale de la France. 1450 — 1660 I Éd. F. Braudel et E. Labrousse T. 1. Vol. 1. Paris: PUF, 1977. P. 173.
. В феврале 1577 г. спешно собранные Генеральные штаты отказали королю в каких-либо дополнительных финансовых средствах. В такой ситуации Генриху III оставалось только лавировать между различными политическими силами, создавать систему сдержек и противовесов, опираясь на свой любимый принцип управления — divide et impera .
Несмотря на оппозицию ультракатоликов Гизов, которые активно участвовали в последней войне и фактически не получили от этого никаких политических дивидендов, равно как отрицательную позицию по отношению к заключенному с гугенотами миру папы Григория XIII и Испании, 8 октября 1577 г. королем был издан эдикт в Пуатье, подтвердивший все мирные статьи. Многие исследователи подчеркивают, что речь идет в действительности о прообразе Нантского эдикта 1598 г., положившего конец гражданским войнам в XVI в. [1171] Champeaud G. Le Parlement de Bordeaux et les Paix de religion (1563–1600). Une genèse de l'Èdit de Nantes. Bouloc: Éd. d'Albret, 2008. P. 90, etc.; Плешкова С.Л. Франция XVI — начала XVII века: королевский галликанизм. С. 218 и далее.
Г.И. Баязитова и Д.С. Митюрева также настаивают на том, что целью короля были не только прагматические намерения и достижение политического мира, но и реализация его убеждений по выстраиванию неоплатонической модели монархии [1172] Баязитова Г.И., Митюрева Д.С. В преддверии рождения государства: язык, право и философия в политической теории Жана Бодена. С. 158–159.
.
Читать дальше