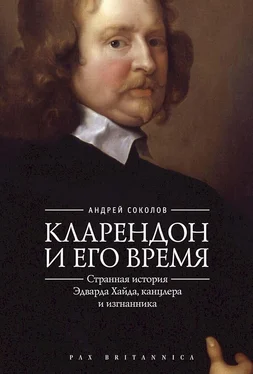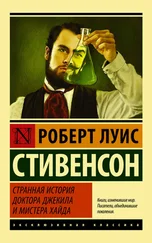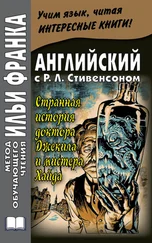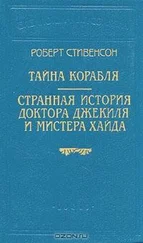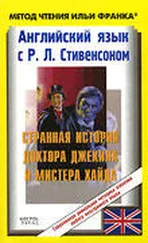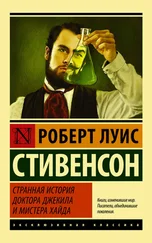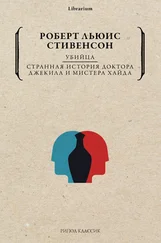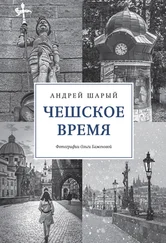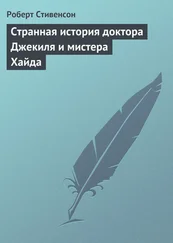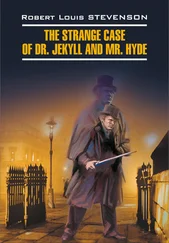Насколько смерть Кларендона соответствовала идеалу «хорошей смерти»? Тема смерти заняла в последние десятилетия немалое место в новой культурной истории. Смерти и ее общественному восприятию посвящены многие работы историков, в том числе таких классиков историографии, как Ф. Арьес и М. Вовель. Представители новой культурной истории выделяли типы восприятия смерти. По Арьесу, их пять: самый ранний, характеризующийся восприятием ее как неизбежного, приемлемого и ожидаемого события; второй тип возник в средние века в узкой группе социальной элиты, когда сами похоронные церемонии стали выражением социального статуса и материального благополучия. В век Просвещения смерть воспринималась преимущественно как «неукротимая и беспощадная». Четвертый тип, «твоя смерть», сложился в эпоху романтизма как выражение индивидуальных и семейных ценностей, он предполагал фокусирование внимания не на персоне умирающего, а на выживших родственниках. Наконец, современный тип «запрещенной смерти» отражал не только ее «медикализацию», но и упадок веры в загробную жизнь. Эти типы смерти не сменяют друг друга хронологически, а сосуществуют, в разной степени преломляясь в общественном сознании в различные исторические периоды.
Несомненно, что общественный идеал «хорошей смерти» в раннее новое время воплощал, прежде всего, влияние христианства. Ее модель, господствовавшая в Англии, несла черты католицизма, но и черты, означавшие разрыв с ним. Хотя присутствие священника у одра умирающего оставалось обязательным ее признаком (недаром апологетически расположенный к Кларендону историк Оллард по косвенным свидетельствам утверждал, что такой человек у канцлера был), сама роль духовного лица в процессе умирания уменьшилась. Реформация полностью отменила или значительно упростила обряды умирания (религиозная практика протестантских церквей и сект различалась). Напротив, возросла духовная и эмоциональная роль семьи и близких, молитвы которых сменили церковные ритуалы. Англиканский идеал «хорошей смерти» обосновывался в ряде духовных сочинений, самым известным из которых было труд епископа Джереми Тейлора «Правило и упражнения святого умирания» («The Rule and Exercise of Holy Dying»), вышедший в 1651 году и известный даже в XIX веке. В отличие от католиков он был противником бесед с умирающим, молитв о его прощении и даже причащения, в то же время, полагал: святость и путь в рай обеспечивается ежедневными молитвами и благочестием в течение всей земной жизни. Роль священнослужителя он видел в том, чтобы поддерживать дух умирающего, молиться и побуждать его покаяться в грехах.
Английский историк Пэт Джелланд, автор книги о смерти в викторианское время, обнаруживала корни многих представлений того времени в раннее новое время. Она писала: «В идеальном случае человек должен умирать дома, причем так, чтобы успеть ясно и полно попрощаться с каждым членом семьи. У умирающего должно быть время, физические и умственные возможности, чтобы завершить мирские и духовные дела, что могло означать как причащение, так и молитвы семьи. Умирающий до конца должен быть в сознании и здравом уме, смириться с волей Бога, быть способным просить прощение за свои грехи и просить о спасении души. Боль и страдания должны приниматься стойко, даже как желаемые, как последний тест на пригодность попасть в рай и расплатиться за прошлые грехи» [61, 26 ]. Джелланд также отмечала: в викторианское время смерть стала менее публичной, чем в XVII веке, когда у постели умирающего собиралась «толпа», особенно если речь шла о членах монарших семей или об аристократах и государственных деятелях. По всем показателям смерть Кларендона не дотягивала до стандарта «хорошей». Он умер не дома и не на родине. Простились с ним только два сына, а другие члены семьи не смогли сделать этого.
В январе 1675 года тело Кларендона перевезли в Англию и почти тайно захоронили в северной галерее Вестминстерского аббатства, возле входа в часовню Генриха VII. Там же захоронен ряд его родственников и потомков.
Эпилог — это о том, что осталось после смерти главного героя. Как говорилось в старом фильме, «от большинства остается только черточка между двумя датами». Этого не скажешь о Хайде. Его произведения, в том числе самое великое, «История мятежа и гражданских войн», живо, и в течение столетий продолжает быть главным источником по Английской революции середины XVII века, следовательно, жива и память об авторе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу