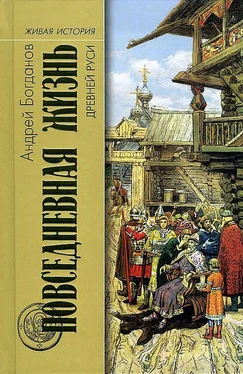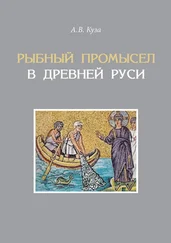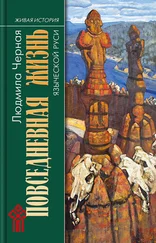Летописи, безусловно, — яркие литературные, более того, публицистические произведения. Школьные воспоминания о том, что летописцы якобы лишь добавляли сведения год за годом, отбирая и отображая их «без гнева и пристрастия», следует с доброй и ироничной улыбкой забыть. В этой книге немало страниц, посвященных страсти, с которой летописцы всеми силами и средствами старались обосновать свою концепцию истории Древней Руси. То же самое мы видим в современной литературе — например, о войне 1812 года, Революции 1917 года или Великой Отечественной войне. Можем ли мы на основании этих новых, непременно концептуальных исследований судить о реальных событиях? Несомненно, можем. Если мы понимаем концепцию автора и тенденцию его изложения, особенно когда можем сопоставить сочинения авторов с разными точками зрения. То же самое касается древнерусских летописей и житий, которые развивают Друг друга, сталкиваются между собой или, напротив, с похвальным усердием обличают всех, чужих и своих власть имущих (и средства дающих), когда те угрожают самому ценному — единству Руси.
Объективизированная форма повременных записей «без гнева и пристрастия» лишь некоторое время скрывала от ученых собственный взгляд автора на события, оценку причин и участников в зависимости от исторической концепции, политического заказа и местных пристрастий. Уже в древнейшем летописании столкнулись претензии на первенство между Новгородом и Киевом, по мере усиления раздробленности Руси летописцы всё ярче выражали взгляд каждый из своего «стольного града». Но не утратили силу общие идеи, которые позволяли книжникам объединять разные летописи в монументальные общерусские произведения — своды. Они включают, помимо летописных статей, массу вписанных по годам литературных произведений: жития почитавшихся с XI века княгини Ольги и князя Владимира, князей Бориса и Глеба и других русских святых, церковные (например, о начале Киево-Печерского монастыря) и светские повести (о начале Русской земли, о полянах, о восстании 1068 года в Киеве, об ослеплении князя Василька и др.). В текст органично вписывались и документы, вроде древних договоров Руси с Византией, и народные сказания. Хотя составляли своды чаще всего ученые монахи, увлекательный и остроумный рассказ был ориентирован на широкого читателя и слушателя. Читали летописные своды князья династии Рюриковичей, которых летописцы прославляли, не забывая наставлять оставить ссоры и служить Русской земле: сочинения Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха даже вошли в летопись. Читали бояре и дружинники, зажиточные горожане и просвещенные деятели Церкви. То есть именно та среда, повседневную жизнь которой нам предстоит изучить и понять. И сама тенденция летописей, которая, как мы увидим в деталях, мешает нам достоверно оценить многие описанные в них события, очень ценна для понимания того, что важнее событий, — самосознания хозяев Русской земли и определения, кто был земле хозяином.
При прикосновении к древнерусским текстам представление о том, что принятие христианства в конце X века означало войну с народной традицией, разлетается в прах. Русь для древнерусских книжников первична, принятое от греков православие и пришедшая с ним из Византии и от южных славян книжность — вторая по значению ценность, смысл которой состоит в развитии и украшении Руси. «Слово о законе и благодати» первого русского митрополита Илариона, обращенное к Ярославу Мудрому в середине XI века, стало краеугольным камнем русского православия и национальной исторической концепции. Эта концепция соединила христианство, которое русские приняли позже многих народов, и династическую легенду «призванных» князей с гордостью за Русскую землю и верой в ее великую миссию. Выступив со «Словом» в храме Софии Киевской, Иларион с помощью авторитета Священного Писания доказал, что для новой веры потребны новые люди: они превзойдут старые народы в служении Богу, который не зря «спас и в разум истинный привел» россиян. Предрекая русскому народу великую миссию, митрополит восславил Владимира — наследника великих князей, которые «не в худой и не в неведомой земле владычествовали, но в Русской, которая ведома и слышима во все концы земли». Не греки крестили Русь, но славный Владимир, не уступающий равноапостольному императору Константину Великому. «Только от благого помысла и остроумия» принял христианство могучий князь, открыв новую страницу истории, на которой русские являются «новыми людьми», избранным Богом народом.
Читать дальше