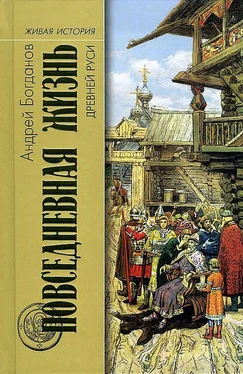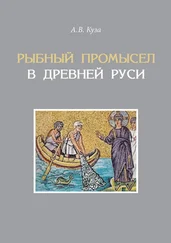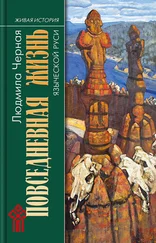4 июня все праздновали Ярилин день. «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях венок, в левой руке ржи пучок, в правой палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется». По этнографическим наблюдениям, Ярилой мог выступать голый, светлоглазый и кудрявый парень в цветочном венке, с колосьями и палицей, или девица в белой мантии на белом коне, с черепом в одной руке и колосьями в другой. Где его образ появится — будет хороший урожай, на кого Ярила посмотрит — тот влюбится [187] Древлянский П. Белорусские народные предания. Кн. 1 // Прибавления к Журналу Министерства народного просвещения. СПб., 1846.
. Ярила, «распространяющий весенний или утренний солнечный свет, возбуждающий растительную силу в травах и деревьях и плотскую любовь в людях и животных, юношескую свежесть, силу и храбрость в человеке» [188] Наблюдения по Архангельской губернии: Ефименко П. С . О Яриле, языческом божестве Русских Славян // Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1868. Т. 2. С. 79–112.
, напоминает древнегреческого Эрота — порождение Хаоса и светлого дня, — оплодотворяющего землю бога весны и любви. Этот древнейший из богов покровительствовал страсти, ярости равно в любви и в бою. Как и все древние боги, он служил созиданию и разрушению одновременно.
Знаменитым доселе праздником плодородия был день летнего солнцестояния, привязанный в христианской традиции к дню рождества Иоанна Предтечи 24 июня. Иван Грозный называл этот праздник русалиями. Христианские летописцы представляли их с внешней стороны, как «бесовские игрища» с музыкой (трубами и гуслями), скоморохами, песнями и «потехами с плясанием». Стоглавый собор осуждал русалии на Ивана Купалу (как и в ночь перед Рождеством), когда «сходятся мужи, и жены, и девицы на ночное купание, и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела. И бывает отроком осквернение и девам растление. И когда мимо нощь ходит, тогда отходят к реке с великим криком, как бесы, и умываются водою. И когда начнут заутреню звонить, тогда отходят в дома свои и падают как мертвые от великой усталости».
Летние русалии были обрядом очищения огнем и водой, укрепления связей с предками, когда пары, взявшись за руки, прыгали через костры, вспоминая о переходе родовичей из этого в лучший мир. Но главный смысл был именно в угодном богам соединении очистившихся девушек и юношей, мужчин и женщин в обряде плодородия. Ритуал лишь помогал в этом. Искать в лесу растущие низко-низко маленькие цветочки папоротника обнаженные пары отправляются более тысячи лет. Многие в древности знали, что папоротник даже в волшебную Купальскую ночь не цветет. Тем не менее люди были довольны результатом поисков, находя в лесу гораздо большее, чем цветы.
На Купалу люди предстояли богам и предкам обнаженными. Но начало этого и множества других праздников требовало от них быть ряжеными — носить странные одежды (хотя бы вывернуть шубу мехом наружу), ритуальные кожаные или берестяные маски, стилизованно изображавшие предков, богов и животных. Такому перевоплощению, судя по археологическим находкам и исследованиям этнографов, наши предки предавались с увлечением и изрядной фантазией.
Осенью после жатвы дружинники вместе с народом устраивали веселую коллективную охоту на птиц («перевесы»), а затем на крупных рогатых зверей («тенета»). После завершения всех сельских работ, в конце осени — начале зимы, поминовение усопших (в христианстве Дмитриевская суббота) начиналось «плачем об умерших», после чего люди непременно «упиваются и кощуны деют», кормя землю и призывая предков, как вечно живых, в помощь. «Покойнички на Русь Дмитриев день ведут, — верили и позже, — покойнички ведут — живых блюдут».
Праздники зимнего солнцестояния, позднейшие христианские Святки, от Рождества до Нового года, Стоглавый собор XVI века обличал в безудержном народном «бесновании, различных играх и плясаниях… в нощи и… весь день». В это время «мужи, и жены, и дети» в домах, на улицах и на льду замерзших рек развлекались «всякими играми сатанинскими», оставшимися от язычества. Двенадцатидневный праздник зимних Святок не был христианским изобретением. Помимо веселых игр, пения и танцев люди вспоминали прошлое, слушая исполнявшиеся гуслярами эпические сказания, и гадали о желанном плодородии, вознося «славу хлебу», ворожа о суженом и т. п.
Читать дальше