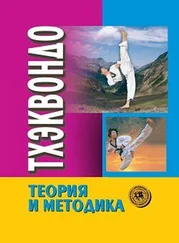Согласно распространенному мнению, советское историческое воображение носило телеологический характер, то есть ретроспективно рассматривало события прошлого как подготовительные к Октябрьской революции — и, шире, к началу принципиально новой эпохи в развитии человеческого общества, — и именно эта историческая оптика лежит в основе советской исторической прозы. Это справедливо только отчасти: такой взгляд на историю характерен для собственно революционной эпохи и, соответственно, для произведений, созданных в начальный период после революции. Затем, после формирования на рубеже 1920–1930-х годов сталинского государства с его особой идеологией, такой прямолинейный телеологический взгляд уступает место более сложному, внутренне противоречивому и фрагментарному историческому воображению. Евгений Добренко связывает первый, «революционный» тип исторического воображения, всерьез воспринимающий интернационализм и, например, отрицающий роль личности в истории, с фигурой советского историка-марксиста Михаила Покровского [351] Добренко Е . «Занимательная история»: Исторический роман и социалистический реализм // Соцреалистический канон: Сборник статей / Под ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 874–895.
. Примером исторической прозы, в основе которой лежит «революционное» понимание истории, является роман Артема Веселого «Гуляй, Волга!» (1932), буквально трактующий Российскую империю в качестве «тюрьмы народов» и, соответственно, описывающий покорение Сибири Ермаком в антиколониальном ключе.
Марксистское отсутствие пиетета к отдельным историческим личностям и, напротив, интерес к «историческому творчеству масс» заметны как в произведениях о недавнем прошлом — «Железном потоке» Александра Серафимовича (1924) и «Голом годе» Бориса Пильняка (1922), так и в книгах о народном бунте и его предводителях. Последняя тема была среди наиболее популярных в исторической беллетристике 1920-х: достаточно назвать роман «Разин Степан» Алексея Чапыгина (1925–1926), «Бунтарей» Алексея Алтаева (1926) и «Салавата Юлаева» Степана Злобина (1929). Роман Чапыгина, в частности, является хорошим примером телеологического понимания истории, которое доходит до явных анахронизмов: чапыгинский Разин оказывается не только противником монархической власти, но и антиклерикалом (если не атеистом), а также демонстрирует в романе понимание механизмов исторической преемственности и значения своей борьбы для народного будущего. Вместе с тем в романе заметны и черты дореволюционной русской беллетристики, далекой от идеологических битв: поражение восстания у Чапыгина оказывается связано не с его исторической преждевременностью, а с причинами мелодраматического характера — разгром армии Разина под Симбирском объясняется тем, что влюбленный в персидскую княжну Василий Ус, желая устранить соперника, договаривается с предателем, который тяжело ранит предводителя восстания перед решающим сражением.
К традиции дореволюционной исторической беллетристики тяготеет и еще один важный роман этого периода — «Одеты камнем» Ольги Форш (1925), героем которого является русский революционер, военный и писатель Михаил Бейдеман, заключенный в 1861 году без суда в Алексеевский равелин. Он провел в заключении 20 лет, после чего был направлен в Казанскую психиатрическую больницу, где еще через шесть лет умер. Образ Бейдемана несет на себе несомненные признаки сходства с Рахметовым, а любовная коллизия романа отсылает читателя к Тургеневу. Телеологичность истории явлена в романе посредством ретроспективной оптики: о событиях жизни Бейдемана и историческом контексте мы узнаем от его друга юности, некогда предавшего Бейдемана из ревности — и пишущего мемуары о своей жизни в 1923 году.
По всей видимости, наиболее значительными историческими романами, созданными в 1920-е годы, являются романы Юрия Тынянова «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара». Романы эти, с одной стороны, находятся в русле марксистского понимания истории: так, оба имеют явную антиимпериалистическую направленность, а историческая роль декабристов, как они описаны у Тынянова, по крайней мере ничем не противоречит положениям известной ленинской статьи «Памяти Герцена» [352] «Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию…», etc. ( Ленин В.И . Памяти Герцена // Полное собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы, 1968. Т. 21: Декабрь 1911 – июль 1912. С. 261).
. В то же время романы Тынянова — возможно, единственные в советской литературе — удовлетворяют критериям Лукача. Это хорошо видно из «Кюхли»: в качестве главного героя выбран Вильгельм Кюхельбекер, малоизвестный поэт, о котором до Тынянова широкому читателю было известно немногое, и это немногое сводилось в основном к нескольким анекдотам из лицейской жизни. В декабристском движении Кюхельбекер тоже не был центральной фигурой: к Северному обществу он присоединился, как известно, за две недели до восстания. Его частная история, однако, позволяет Тынянову создать чрезвычайно убедительную в художественном отношении историю «людей 14 декабря»: в полном соответствии со сформулированными на 10 с лишним лет позже пожеланиями Лукача Тынянов занят не пересказом «крупных исторических событий», а воссозданием «художественными средствами образа тех людей, которые в этих событиях участвовали», и тем самым дает читателю возможность переживания непосредственной связи с прошлым. Отношение Тынянова с исторической достоверностью — вопрос, требующий отдельного долгого разговора. Здесь скажем только, что хотя исторические Кюхельбекер и Бурцев участвуют у него в том числе в событиях, в которых они на самом деле не участвовали, дело не в пренебрежении исторической правдой, а скорее в том кредо, которое Тынянов формулирует в статье «Как мы пишем» 1930 года: «Там, где кончается документ, там я начинаю. <���…> Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него…» [353] Тынянов Ю . Литературная эволюция: Избранные труды. М.: Аграф. 2002. С. 213–214.
Историческая проза, по Тынянову, таким образом, начинается после того, как документ заканчивается, и не может ограничиваться документом, поскольку «представление о том, что вся жизнь документирована, ни на чем не основано: бывают годы без документов. <���…> И потом, сам человек — сколько он скрывает <���…>. Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное» [354] Там же. С. 213.
.
Читать дальше
![Коллектив авторов Все в прошлом [Теория и практика публичной истории] обложка книги](/books/430176/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika-cover.webp)