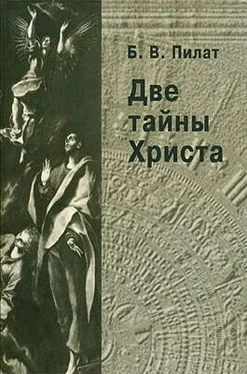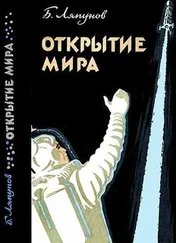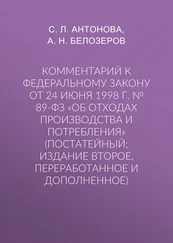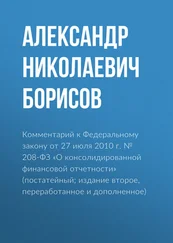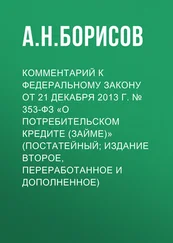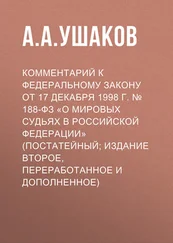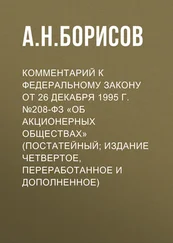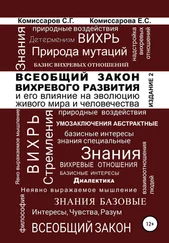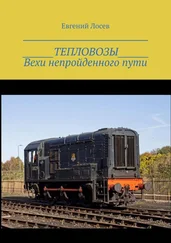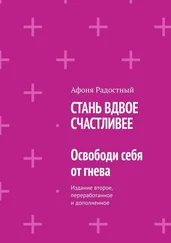Еще одна особенность нашей идентификации — это проблема созвучия. В подтверждение возможности этой проблемы можно привести пример расшифровки Юрием Кнорозовым рукописей майя. Нас здесь интересуют не достоверность или недостоверность его расшифровки, а совсем другое: гениальная догадка Кнорозова состояла в том, что он обратил внимание на человеческие качества писца и диктовавшего ему инквизитора. Писец трансформировал услышанное в понятную ему форму изложения. Но эта трансформация исказила суть сказанного. То же самое и в нашем случае. Чтобы выяснить истинный смысл изложенного, мы будем пользоваться любой возможностью, даже интонациями, которые нельзя не уловить в подтексте того или иного стиха евангелий, и постараемся как можно точнее воспроизвести картину тех далеких событий.
По-видимому, наше обращение к расшифровке рукописей майя носит слишком абстрактный характер. Мы могли бы сослаться на многочисленные интерпретации и комментарии текстов Ветхого Завета, где дискутируются вопросы о дубликате, возникающих при переписывании текстов, о повторениях книжников, об особенностях и возможных искажениях текстов, возникающих при переводах. Обратимся к более поздним текстам.
Речь идет о Евангелии от Псевдо-Матфея, где в главе 14 младенец Иисус представляется нам лежащим в яслях «меж двух животных» — волом и ослом, стоявших в стойле, как гласит легенда. На деле же речь идет о банальном промахе переводчика одного места у «малого» пророка Аввакума из греческого текста Септуагинты (3:2), где мы читаем, что будущий спаситель Израиля заявит о себе меж двух эпох, т. е. в наше время, в наши дни: для родительного падежа множественного числа слов «животное» и «эпоха» греческий язык имеет одну форму. В латинском же переводе это место передано как «среди двух животных» [3] Донини А. У истоков христианства. М.: Политиздат, 1989, с. 25.
.
Писания или тексты, вошедшие в Новый Завет, восходят не ранее чем к IV в., Мураториев канон датируют последними десятилетиями II в. Естественно, что многочисленные тексты, циркулировавшие в раннехристианских общинах, создаваемые и передаваемые на основе устных традиций, переписываемые многократно, разнились между собой. Об этом, к примеру, свидетельствует Цельс: «(Неудивительно поэтому, что) некоторые из верующих, как бы в состоянии опьянения, доходят до того, что налагают на себя руку, трижды, четырежды и многократно переделывают и перерабатывают первую запись евангелия, чтоб иметь возможность отвергнуть изобличения» [4] Цельс. Правдивое слово // Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства: Античные критики христианства. М.: Политиздат, 1990, с. 279.
.
Не признавать возможность неточностей либо канонизировать тексты Нового Завета было бы безусловной ошибкой. Такая позиция заводит любое объективное исследование в тупик, лишая его всякой логики. В то же время осмысление и корректировку канонических текстов необходимо проводить с величайшей осторожностью, поскольку очень легко «с водой выплеснуть и ребенка».
«Критиканство» текстов без должных доказательств создает иллюзию объективности и вседозволенности, оставляя впечатление полной безнадежности какого-либо интеллектуального прорыва через две тысячи лет.
По существу, мы вступаем на путь между Сциллой и Харибдой: «полная канонизация» — «абсолютное отрицание». При благожелательном подходе краткость или вековая «шероховатость текста» может быть легко интерпретирована «без покушений на устои» и отреставрированная фраза предстанет перед нами во всей своей первозданной красе и информативности. В качестве иллюстрации рассмотрим небольшой эпизод въезда Иисуса в Иерусалим. Анализ этой ситуации очень поучителен.
«Сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне… „Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной“. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их» (Мф. 21:2,5,7).
«И говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка? И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои: Иисус сел на него» (Мк. 11:2,4,5,7). Иоанн, по существу, дублирует Марка. «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, дщерь Сионова! Се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле“» (Ин. 12:14–15).
Читать дальше