Существует общее согласие в признании преобладающей роли коллективных представлений в оппозиции правого и левого, которая чаще всего соответствует оппозиции священного и профанного [326]. Отталкиваясь от «почти не имеющей значения асимметрии тела» [327]человеческие сообщества развили глубоко асимметричное представление о пространстве. Ранняя Греция прекрасно иллюстрирует этот факт [328](который, впрочем, выходит далеко за рамки античности) [329]. Так, у Гомера с правым всегда связаны активная сила и жизнь, а с левым — пассивная слабость и смерть. Справа исходят жизнеутверждающие и благотворные силы, тогда как слева — лишь пагубные воздействия и силы, угнетающие дух. Все это выявил Ж. Куйяндр (Cuillandre J.), долго и тщательно изучая гомеровские поэмы; хотя его анализ порой и уводит в чрезмерные тонкости, в целом он все же убедителен (Cuillandre 1944) [330].
С Гомером Куйяндр справедливо сопоставлял древних пифагорецев. Действительно, то, что в «Илиаде» и «Одиссее» находилось в разрозненном виде, пифагорейцы систематизировали [331]. В «Метафизике» Аристотеля [332]приводится таблица противоположностей (знаменитая systoichia), составленная из десяти главных оппозиций, в которые «некоторые пифагорейцы» укладывали всю действительность. Пара правое/левое присутствует здесь наряду с парами конец/бесконечное, четное/нечетное, единое/множество, хорошее/дурное, квадратное/продолговатое. С точки зрения Аристотеля, эта таблица, несомненно, была древней, поскольку он отмечает, что она была заимствована либо пифагорейцами у Алкмеона Кротонского, либо самим Алкмеоном у пифагорейцев [333]. Космос также подчиняется этому всеобщему разделению сущностей. Согласно аристотелевскому трактату «De Caelo» («О небе»), пифагорейцы рассматривали небо как тело, имеющее право и лево: «Поскольку же некоторые утверждают, что у Неба есть право и лево, — я имею в виду так называемых пифагорейцев, так как именно им принадлежит это учение» [334]. Объясняя этот пассаж в своем комментарии к «De Caelo», Симпликий приводит такое замечание, почерпнутое из утраченного трактата Аристотеля: «Действительно, право они (пифагорейцы] называли также и верхом, и передом, и добром, а лево — и низом, и тылом, и злом, как сообщает сам же Аристотель в "Своде пифагорейских мнений"» [335].
Именно с этим превосходством правого связаны некоторые обычаи, практиковавшиеся акусматиками: например, два правила, из которых одно требовало заходить в храм справа, другое — всегда начинать обуваться с правой ноги (при том, что к обратным действиям приступали начиная слева) [336].
Подобная качественная топография обнаруживается и в подземном мире, как представляли его себе некоторые секты «орфической» или пифагорейской направленности. Именно это заключено в символике буквы «ипсилон» (Y): «На перекрестке (triodos) Аида восседают судьи человеческих душ. Они направляют направо тех, кто за свои заслуги удостоились чести попасть на Елисейские поля; по дороге налево они гонят злонравных, которые должны быть низвергнуты в Тартар» [337].
Дуализм левого и правого, столь четко обозначенный у пифагорейцев, в действительности пронизывает всю греческую философскую мысль V в. до н. э. Например, согласно традиции, к которой принадлежат Парменид, Анаксагор и Эмпедокл, а также какой-то из медиков гиппократовской школы, зачатие мальчика происходит в правой части матки, а девочки — в левой [338]. Впрочем, у врачей классической эпохи это было не единственное поверье. Считалось, что правый глаз зорче, а правая грудь сильнее, чем соответствующие левые части тела; [339]что у беременной женщины устанавливается связь между мужским зародышем и правой грудью; [340]что «опасно прижигать или делать надрез справа: ведь чем крепче правая сторона, тем сильнее и поражающие ее недуги» [341]. Тексты эти тем более поразительны, что датируются они, вероятно, началом IV в. до н. э. (Bourgey 1953: 33—41), а мы знаем, сколь большое место отводилось медицине в греческой образованности (paideia) в классическую эпоху [342].
Таким образом, мы имеем дело с традицией настолько мощной, что ее одной, на наш взгляд, достаточно, чтобы объяснить, почему древние греки имели обыкновение идти в наступление правым крылом войска [343]. Однако от Фукидида мы удалились меньше, чем может показаться, поскольку совершенно «нормально» то, что в правой руке держат копье, а в левой — оборонительное оружие, щит [344].
При таких обстоятельствах потребовалась настоящая революция, чтобы в V в., в эпоху «просвещения», которым характеризовался «век Перикла» [345], бросить вызов традиции, которая все еще была столь жизненной. Критика традиции велась с трех направлений: с точки зрения technê (мастерства, которое могло требовать использования обеих рук) [346], на основе изучения анатомии и в рамках теоретических рассуждений о пространстве в геометрии. Применительно по крайней мере к первым двум из этих направлений, особое место в развитии критического мышления принадлежало греческим врачам. Когда Диоген из Аполлонии описывает систему вен [347](не упоминая при этом большинство артерий), он конструирует целую сеть сосудов, которая совершенно симметрична и основывается на последовательном разделении — без какого-либо предпочтения — на правое и левое [348]. Со своей стороны «позитивно» мыслящий автор трактата «О кабинете врача» провозглашает [349], что необходимо «вырабатывать привычку делать все каждой рукой отдельно и обеими руками вместе; ведь на самом деле они подобны» [350].
Читать дальше
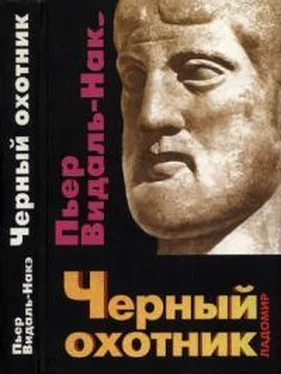

![Джеймс Кервуд - Черный охотник [авторский сборнник]](/books/150113/dzhejms-kervud-chernyj-ohotnik-avtorskij-sbornnik-thumb.webp)



![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/398480/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o-thumb.webp)




