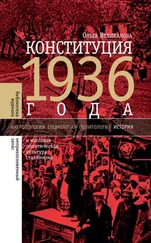Отчасти именно на решение этой задачи и ориентированы труды историков «школы советской субъективности». В России подобные исследования еще только начинают появляться. Из крупных работ мы можем отметить прежде всего две книги. Во-первых, это монография политолога О. В. Хархордина, подготовленная им на основе своей диссертации, выполненной в одном из ведущих на территории США постструктуралистских научных центров — Университете Беркли [40] Хархордин О. В. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб.; М., 2002.
. Большое влияние на автора оказали работы М. Фуко, терминология и модели концептуализации этого философа. Личность в советском обществе О. В. Хархордин исследует в ее взаимодействии с коллективом через анализ практик обличения, товарищеского увещевания и отлучения. Сами по себе эти практики, по мнению автора, насаждались властью как инструмент взаимного (горизонтального) контроля и дисциплинирования общества, однако затем стали фактором индивидуализации личности. Проходя чистку в партии, составляя автобиографию или отчитываясь перед «коллективом товарищей» на «суде чести», то есть становясь субъектом действия, индивид невольно совершал рефлексию своей предшествующей деятельности. В этих условиях происходило формирование его представлений о самом себе, что в конечном итоге, по мысли О. В. Хархордина, и предопределило успех индивидуалистической психологии после падения Советского Союза. Другой работой, важной для понимания механизмов коммуникации индивида и власти в советской России, стала книга С. В. Ярова [41] Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград 1917—1920-х годов. СПб., 2006.
. Несмотря на то обстоятельство, что работа основана прежде всего на богатом опыте отечественной исторической психологии, ее ключевая проблематика почти идеально соотносится с главным вектором научных поисков школы «советской субъективности». В частности в работах С. Коткина одной из центральных тем является анализ методов, при помощи которых сталинский режим вовлекал индивида в свою деятельность, делал его субъектом своей политики. Такая реакция индивида, которую американский исследователь характеризует как «коллаборационизм», очень близка по своей сути понятию «конформизм» — в качестве аналитического стержня — книги С. В. Ярова. Работа последнего, собственно, и посвящена формированию в рамках советского политического режима институциональных (система политического просвещения, политизации языка и досуга) и логических (системы аргументации) условий, предопределивших обращение индивида в «большевизм». Несмотря на появление этих, безусловно, интересных работ тема взаимодействия индивида и власти все еще продолжает оставаться мало изученной областью, обращение к которой, как думается, было бы весьма целесообразным и актуальным.
В современных аграрно-исторических исследованиях, как правило, выделяются три этапа в развитии отечественной историографии советского крестьянства: первый этап -1930-е — первая половина 1950-х годов; второй — вторая половина 1950-х — конец 1980-х; третий — конец 1980-х — до наших дней [42] Такую схему периодизации можно встретить во многих современных исследованиях по истории советской деревни. См.: Бондарев В. А. Фрагментарная модернизация постоктябрьской деревни: история преобразований в сельском хозяйстве и эволюция крестьянства в конце 20-х — начале 50-х годов XX века на примере зерновых районов Дона, Кубани и Ставрополья. Ростов-на-Дону. 2005; Безгин В. Б. Традиции и перемены в жизни российской деревни 1921–1928 годов (по материалам губерний Центрального Черноземья). Дисс… канд. ист. наук. Тамбов, 1998; Воронков Б. О. Восприятие крестьянством Центрального Черноземья политики партийно-государственного руководства СССР во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х годов. Дисс… канд. ист. наук. Воронеж, 2003 и др.
. Хотя центральной проблемой крестьяноведческих исследований применительно к 1930-м годам оставалась тема коллективизации и ее последствий, оценки, методология и институциональные основы историографии на этих этапах значительно отличались.
Для работ по истории крестьянства на первом этапе была характерна значительная зависимость от официальной партийной литературы и установок «Краткого курса истории ВКП(б)» [43] Овсяников Г. Московские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930–1934 гг.). М., 1949; Смирнов М. С. Борьба партии Ленина-Сталина за подготовку массового колхозного движения. М., 1952; Абрамов Б. Партия большевиков — организатор борьбы за ликвидацию кулачества как класса. М., 1952.
: коллективизация характеризовалась как «факт всемирно-исторического значения», второй после Великой Октябрьской социалистической революции. Утверждалось, что только благодаря руководству коммунистической партии, вооруженной «гением» «любимого вождя» И. В. Сталина, был осуществлен переход страны от мелкокрестьянского производства к крупному производству социалистического типа. Сопротивление крестьянства коллективизации объяснялось происками кулачества и «троцкистско-бухаринской агентуры». Крайне редко упоминалось о «перегибах», которые оценивались как «искривления партийной линии» на местах. Коллективизация оценивалась как важнейшая предпосылка построения социализма. Двадцатью годами позже крупнейший советский историк-аграрник В. П. Данилов, подводя итоги этого этапа в изучении крестьянства, очень жестко охарактеризовал работы 1940-х — начала 1950-х годов: «В известной степени они были обязаны своим появлением 20-летнему юбилею революционного переворота в жизни советского крестьянина. Их содержание сводилось к комментированию положений “Краткого курса истории ВКП(б)”, к их подтверждению и иллюстрированию отдельными примерами» [44] Данилов В. П. Основные итоги и направления изучения истории советского крестьянства. Доклад на сессии по проблеме «В. И. Ленин и решение аграрного вопроса в СССР». М., 1969. С. 62–63.
. Важно также отметить, что в это время исследовательский интерес историков концентрировался преимущественно на политике партии и советского государства по отношению к деревне, при этом вне поля зрения оставались социально-экономические и социально-культурные проблемы села.
Читать дальше
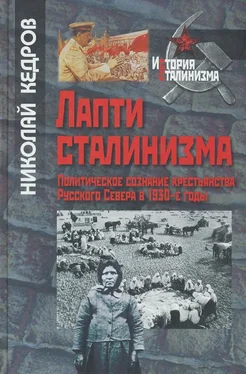
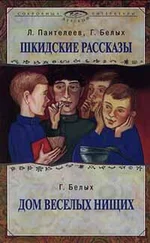
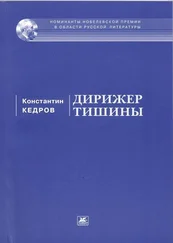
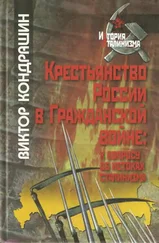
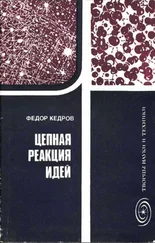

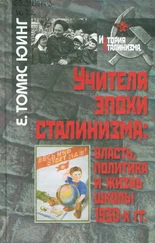
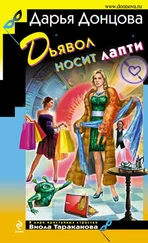

![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/432697/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya-thumb.webp)